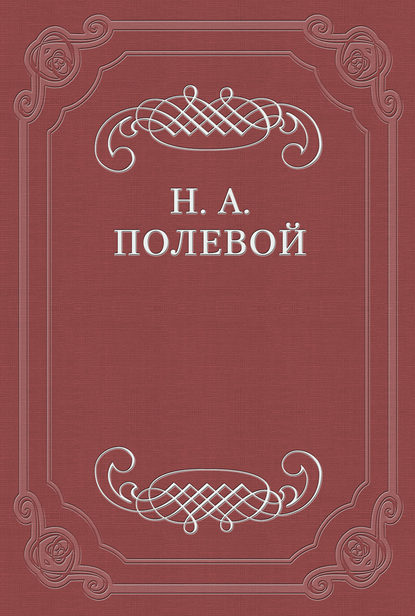По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клятва при гробе Господнем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Косого и Шемяку? – спросил он, задумавшись.
«Да, как в первый раз увидела я сегодня князя Василия, так сердце мне сказывало, что он недаром глядит исподлобья».
– Это мне непонятно, – отвечал Константин, – как могли они приехать и сами в руки отдаться? Княгиня, сестрица! не будем делать шуму! Они всегда еще успеют быть схвачены. Но на свадьбе – наших гостей… подумай сама!
«Что ты веришь этому Каинову отродью, – вскричала София. – А примета, как пришел князь Василий ко мне?»
– Я с ними говорил и мне кажется, они не знают и не мыслят никакого зла.
«Что вы, батюшка, князь, им верите, – подхватил ростовский наместник, – прибрать их к рукам – это безопаснее!»
– Так это можно сделать и ночью, а не теперь, – сказал Константин. – Чего бояться? На свадебном пире такой позор! Что скажут все другие князья?
«Дозвольте мне, государыня тетушка, захватить Василия. Завтра же он будет под такою стражею, что и птица не пролетит к нему!» – сказал Можайский.
– А я закреплю Шемяку, – сказал князь Боровский. «Быть по-вашему, – отвечала София, – скреплюсь; буду хоть искоса смотреть на злодеев моих, а в глаза им прямо смотреть я не в силах, пока они не будут в железах».
Она вышла. Князья и бояре, остались на несколько минут для совета. Не давая никому и ничего знать, один за другим являлись они в палату, где были собраны другие князья и бояре.
Юрья Патрикеевич вышел после всех и прошел в терем княгини Софии. Он застал ее в дальней комнате. Какой-то старик стоял в углу и держал в руках большую кружку, нашептывая что-то в эту кружку потихоньку. София сидела подле стола, задумавшись, облокотясь головою на руку.
Юрья Патрикеевич был правнук Ольгерда и происходил от Нариманта[96 - Наримант Ольгердович (уб. 1395); его сын Патрикий спасся, укрывшись в Новгороде.], убитого Витовтом. Бежав в Москву, он удостоился милости и дружбы Василия Димитриевича, получил за дочерью его богатые поместья, издавна считался первенствующим в Совете, был строгим, точным исполнителем воли княжеской. Его дразнили тем, что, всегда строго и буквально исполняя приказы, он едва было не казнил боярина Кручину Кошку, когда Василий Димитриевич велел ему повесить кошку Кручину. К несчастию, так называлась кошка княжеская. Родня Софии, зять ее, Юрий был любим княгинею.
Юрьи Патрикеевичи не редкость при дворах и даже у богатых людей. Он за правило себе поставил: никогда не рассуждать, но исполнять все, что велят ему. Человек без страстей и без желаний, он приучил всех видеть его беспрерывно при дворе княжеском. Никто в мире не любил его, и все к нему привыкли, а более этого и не умел ни от кого требовать Юрья Патрикеевич. Самый ум его был какое-то собрание опытов и условий: это была записная книга всего, что случалось при дворе, и при каждом новом случае Юрью надобно было только справиться: как решили такое-то дело в таком-то году? Далее ничего не знал, ни о чем он не думал.
Молча остановился Юрья при входе в комнату. София подняла голову, как будто требуя донесения. Юрья обратил глаза свои на старика. «Это наш литвин, природный – ты можешь говорить при нем», – сказала София.
– Государыня, Великая княгиня! все исполнено. Князь Боровский принял начальство над войсками в Кремле; двор Шемяки окружен тайною стражею, и едва подъедет он к воротам своим, как будет взят. Новые отряды войск поехали по Москве; боярин Ощера придан к Басенку; князья Можайский и Верейский велели сбираться дружинам в своей части, князь Константин в своей, князь Боровский в своей трети. Василий Юрьевич со свадебного Пира очутится в тюрьме: князь Можайский будет ждать его, как коршун цыпленка.
«Когда эти два сокола будут в наших руках, мы посмелее можем говорить с их отцом. Однако ж, Бог видимо спасает нас: он отуманил очи этих князей, сами приехали отдаться в наши руки!»
– Божие великое благословение почиет на вашем роде, – отвечал Юрья.
Бедные люди, бедные их замыслы, бедные их помышления и хитрости!
Юрий пошел в палату к гостям. Литовский колдун оборотился тогда лицом к княгине. Мы не будем его описывать, ибо читатели уже знают его: это был Иван Гудочник.
Чистым литовским языком начал он говорить княгине:
«Злое думанье, злое гаданье – зубы змеиные сеяли, княгиня, на пути твоем и твоего сына! Но они не дадут плода! Возьми эту воду, прикажи трижды покропить три порога на Восток. А когда завтра сын твой поедет поклониться угодникам, вели заложить ему пегих лошадей. Один черноволосый, да один русый замышляли зло, но оно не удастся им. Спи, почивай спокойно. Завтра я тебе скажу более». – Он поклонился и вышел.
Бывали ль вы, читатели, на большом веселом пиру? И случалось ли с вами, чтобы в то самое время, когда начинается самое разгульное веселье, в доме загорелось? Внизу заботы, смятение, старание потушить пожар, а вверху светлые, праздничные лица, блестящие одежды. Замечали ль вы в это время разнообразные впечатления? Хозяину сказано, что в доме неблагополучно; ему нельзя отстать от гостей; он верит и не верит уверениям, что пожар невелик; он трепещет за себя и все еще боится обеспокоить, испугать гостей своих. А гости его? а домашние? Одним известна уже опасность, но хозяин молчит и они молчат; другие заботливо скрывают свое смятение; третьи, как нарочно, беспечно, открыто веселятся, и иной никогда не бывал так весел, как теперь, ходя по полу, уже горящему снизу, и, может быть, осужденный погибнуть!
Таким представлялся пир Великого князя московского. Несколько чар доброго вина заняли время до ужина и расположили сердца князей к шумному разгулу. Старики рассказывали о старых проказах своих, молодые – о травлях, охотах, ловах и о красных девушках. Но на лицах некоторых мрачная дума хмурила брови и являла смущение. Многие замечали отсутствие того щи другого.
«Князья и бояре! Князь Великий Василий Васильевич и княгиня Великая Марья Ярославовна просят их княжескому хлебу и соли честь отдать!» – раздались наконец повсюду призывы. Собрание взволновалось; все спешили идти за ужин.
Глава IV
На дне чарки правда положена,
Да, правду ту бес стережет:
Ты за нее ухватишься,
А он за тебя уцепится…
Старинная песня
Мы не будем подробно описывать великокняжеского свадебного стола и только в немногих словах изобразим зрелище пирования князей и бояр, княгинь и боярынь, беспрерывно желавших здравия и счастия Василию Васильевичу, Марье Ярославовне и Софье Витовтовне. Не дивитесь частым изъявлениям их усердия: за желание платы не берут, и каждое желание гостей сопровождалось притом кубком меду доброго, или вина душистого.
Тогда не было еще узорчатой Грановитой палаты, где обильным хлебосольством и восточным гостеприимством удивляли потом собеседников своих русские цари. Тогдашняя столовая палата выходила рядом окошек к житному двору, двумя выходами касалась переходов к дворцовым поварням и к другим торжественным комнатам. Это была обширная зала; у средней стены ее было приготовлено особое седалище, походившее на трон, с высоким балдахином, для молодых Великого князя и Великой княгини. Он и она сидели вместе, на одной широкой скамье, покрытой бархатною подушкою. За одним столом с ними сели: княгиня Софья Витовтовна, князь Константин Димитриевич, князья Александр Ярославский, Иоанн Рязанский, Иоанн Зубцовский, Косой, Шемяка, князья Можайский и Верейский, князь Юрья Патрикеевич, князь Василий Боровский, брат Марии Ярославовны и несколько почетных поезжан. За двумя другими длинными столами сели бояре и князья, подручные и служивые с одной, жены и матери их с другой стороны. Красиво устроенные яства занимали середину столов; множество бояр и сановников стояло за поставами напитков; другие наблюдали за порядком яств и услугою, распоряжая блюдами.
Если бы мы хотели удивить археографическими познаниями, нам легко можно бы было выбрать из старинных летописей и записок названия разных блюд, составлявших столы у наших предков. Чем затруднительнее и непонятнее были бы названия, тем более изумились бы читатели нашей глубокой науке и опытности в древностях русских.
Но мы не хотим этого и скажем просто, что в старину не щеголяли изяществом кушанья, а хотели только, чтобы «яств и питья в столах было много, и всего изобильно». Роскошь означала множество кушаньев – холодных, жарких, похлебок, но состав всего был весьма прост: мяса, рыбы, птицы были без затей варены, жарены, подаваны с подливками. К этому прибавлялось множество курников, караваев, сырников, пирогов – рассольных, торговых, подовых, кислых, пряженых, яичных; пряников, блинов, цукатов, смокв, овощей, марципанов, имбирников. Число кушаньев доходило до ста, до двухсот разборов числом, считая подаваемое князьям и боярам, которым подносили яства особо – и похуже, и поменьше. Это не означало скупости, но происходило от почета: знатные князья оскорбились бы, если бы их кормили наравне с великокняжескими рабами, хотя сии последние также князьями назывались.
Предоставим на сей раз воображению читателей наших – представить им полную картину великокняжеского свадебного стола: громады кушанья, множество напитков, золото, серебро на столах, чинную услугу, громкий хор певчих, при первом блюде запевших «большие стихи из праздников и из триодей драгие вещи, со всяким благочинием».
Хор умолк. Глубокая тишина настала в столовой палате. Никто не смел прервать ее, потому что старики князья еще ели и не начинали беседы, а молодые не смели из-за них подать повод к речам, неуместным каким-нибудь словом.
Желали бы мы спросить людей, бывавших на чужой стороне: заметили ль они у народа чужеземного русский обычай – за хлебом, солью не ссориться? Когда люди не любовные сели у нас за один стол, то разве только зоркий взгляд знающего их взаимные отношения проникнет в их души, дощупается их сердец. Добр, да и хитер русский. На светлом, праздничном лице гостя не узнаете вы, что обуревает душу его в те мгновения, когда медовая речь льется из уст его в замену меда, вливаемого в уста. Хмель не развяжет языка русскому; если он сам не захочет развязать его, иногда и нарочно; оправдываясь потом хмелиною.
Из всего, что мы доселе рассказали, можно понять – в самом ли деле искреннее веселье оживляло гостей великокняжеских, как это казалось по наружному виду их? Но однообразно веселы казались все, кроме двух особ – Софьи Витовтовны и Василия Юрьевича Косого.
Софья Витовтовна напрасно хотела скрыть гнев, досаду, сердце свое: все это выражалось из отрывистых слов ее, порывистых движений и огня, сверкавшего в ее глазах, когда они обращались на князя Василия Юрьевича. Брови Василия Косого сильно были нахмурены; он казался рассеянным; ему ни пилось, ни елось; мрачная дума виднелась в лице его; он говорил мало, угрюмо, улыбался принужденно и тяжело.
Первая перемена кушанья сошла со стола. Старший по летам, почетный гость, князь Ярославский, утер бороду шитым утиральником, выпил из кубка, поставленного в это мгновение перед ним, и обратил речь к Туголукому, еще не кончившему двойного участка кушанья, им взятого.
– Устарел ты, князь Иван Борисович, как посмотрю я на тебя, – сказал князь Ярославский, – видно, брат, и зубы-то отказываются от работы!
«А с чего бы ты изволил так заключать, дорогой куманек мой?» – возразил Туголукий.
– Как с чего? Отстаешь от других. Хорошо, что хозяйка любит тебя и жалует, а то если бы велела подавать, не дожидаясь твоего череду, так ты остался бы в полупире, когда другие его окончили бы.
«С нами крестная сила! – Ведь над нами не каплет, а уж с добрым кушаньем я расставаться скоро не люблю».
– И он не расстался бы с ним, хотя бы ливнем дождь полил на его голову, – сказал князь Рязанский.
Общий смех зашумел между собеседниками, со всех сторон посыпались шутки.
– Вот говорят, что дураки ни к чему не годятся, – сказал тихо Шемяка сидевшему подле него князю Верейскому, – а чем бы начать теперь нашу беседу, если бы нельзя было дать оплеухи по роже Туголукого? ~ Верейский засмеялся.
Туголукий начал креститься. Его спрашивали о причине, «Я радуюсь тому, что князь Димитрий Юрьевич еще не онемел, – сказал Туголукий. – Он так был молчалив во все время, что я начинал думать: не наложил ли он на себя обет молчальника!»
– У тебя плохая привычка, князь Иван Борисович, – сказал Шемяка, – сперва сказать, а потом подумать.
«Меньше думай, долее проживешь, – возразил князь Тверской. – Иван Борисович следует этому присловью – и дельно!»
«Да, как в первый раз увидела я сегодня князя Василия, так сердце мне сказывало, что он недаром глядит исподлобья».
– Это мне непонятно, – отвечал Константин, – как могли они приехать и сами в руки отдаться? Княгиня, сестрица! не будем делать шуму! Они всегда еще успеют быть схвачены. Но на свадьбе – наших гостей… подумай сама!
«Что ты веришь этому Каинову отродью, – вскричала София. – А примета, как пришел князь Василий ко мне?»
– Я с ними говорил и мне кажется, они не знают и не мыслят никакого зла.
«Что вы, батюшка, князь, им верите, – подхватил ростовский наместник, – прибрать их к рукам – это безопаснее!»
– Так это можно сделать и ночью, а не теперь, – сказал Константин. – Чего бояться? На свадебном пире такой позор! Что скажут все другие князья?
«Дозвольте мне, государыня тетушка, захватить Василия. Завтра же он будет под такою стражею, что и птица не пролетит к нему!» – сказал Можайский.
– А я закреплю Шемяку, – сказал князь Боровский. «Быть по-вашему, – отвечала София, – скреплюсь; буду хоть искоса смотреть на злодеев моих, а в глаза им прямо смотреть я не в силах, пока они не будут в железах».
Она вышла. Князья и бояре, остались на несколько минут для совета. Не давая никому и ничего знать, один за другим являлись они в палату, где были собраны другие князья и бояре.
Юрья Патрикеевич вышел после всех и прошел в терем княгини Софии. Он застал ее в дальней комнате. Какой-то старик стоял в углу и держал в руках большую кружку, нашептывая что-то в эту кружку потихоньку. София сидела подле стола, задумавшись, облокотясь головою на руку.
Юрья Патрикеевич был правнук Ольгерда и происходил от Нариманта[96 - Наримант Ольгердович (уб. 1395); его сын Патрикий спасся, укрывшись в Новгороде.], убитого Витовтом. Бежав в Москву, он удостоился милости и дружбы Василия Димитриевича, получил за дочерью его богатые поместья, издавна считался первенствующим в Совете, был строгим, точным исполнителем воли княжеской. Его дразнили тем, что, всегда строго и буквально исполняя приказы, он едва было не казнил боярина Кручину Кошку, когда Василий Димитриевич велел ему повесить кошку Кручину. К несчастию, так называлась кошка княжеская. Родня Софии, зять ее, Юрий был любим княгинею.
Юрьи Патрикеевичи не редкость при дворах и даже у богатых людей. Он за правило себе поставил: никогда не рассуждать, но исполнять все, что велят ему. Человек без страстей и без желаний, он приучил всех видеть его беспрерывно при дворе княжеском. Никто в мире не любил его, и все к нему привыкли, а более этого и не умел ни от кого требовать Юрья Патрикеевич. Самый ум его был какое-то собрание опытов и условий: это была записная книга всего, что случалось при дворе, и при каждом новом случае Юрью надобно было только справиться: как решили такое-то дело в таком-то году? Далее ничего не знал, ни о чем он не думал.
Молча остановился Юрья при входе в комнату. София подняла голову, как будто требуя донесения. Юрья обратил глаза свои на старика. «Это наш литвин, природный – ты можешь говорить при нем», – сказала София.
– Государыня, Великая княгиня! все исполнено. Князь Боровский принял начальство над войсками в Кремле; двор Шемяки окружен тайною стражею, и едва подъедет он к воротам своим, как будет взят. Новые отряды войск поехали по Москве; боярин Ощера придан к Басенку; князья Можайский и Верейский велели сбираться дружинам в своей части, князь Константин в своей, князь Боровский в своей трети. Василий Юрьевич со свадебного Пира очутится в тюрьме: князь Можайский будет ждать его, как коршун цыпленка.
«Когда эти два сокола будут в наших руках, мы посмелее можем говорить с их отцом. Однако ж, Бог видимо спасает нас: он отуманил очи этих князей, сами приехали отдаться в наши руки!»
– Божие великое благословение почиет на вашем роде, – отвечал Юрья.
Бедные люди, бедные их замыслы, бедные их помышления и хитрости!
Юрий пошел в палату к гостям. Литовский колдун оборотился тогда лицом к княгине. Мы не будем его описывать, ибо читатели уже знают его: это был Иван Гудочник.
Чистым литовским языком начал он говорить княгине:
«Злое думанье, злое гаданье – зубы змеиные сеяли, княгиня, на пути твоем и твоего сына! Но они не дадут плода! Возьми эту воду, прикажи трижды покропить три порога на Восток. А когда завтра сын твой поедет поклониться угодникам, вели заложить ему пегих лошадей. Один черноволосый, да один русый замышляли зло, но оно не удастся им. Спи, почивай спокойно. Завтра я тебе скажу более». – Он поклонился и вышел.
Бывали ль вы, читатели, на большом веселом пиру? И случалось ли с вами, чтобы в то самое время, когда начинается самое разгульное веселье, в доме загорелось? Внизу заботы, смятение, старание потушить пожар, а вверху светлые, праздничные лица, блестящие одежды. Замечали ль вы в это время разнообразные впечатления? Хозяину сказано, что в доме неблагополучно; ему нельзя отстать от гостей; он верит и не верит уверениям, что пожар невелик; он трепещет за себя и все еще боится обеспокоить, испугать гостей своих. А гости его? а домашние? Одним известна уже опасность, но хозяин молчит и они молчат; другие заботливо скрывают свое смятение; третьи, как нарочно, беспечно, открыто веселятся, и иной никогда не бывал так весел, как теперь, ходя по полу, уже горящему снизу, и, может быть, осужденный погибнуть!
Таким представлялся пир Великого князя московского. Несколько чар доброго вина заняли время до ужина и расположили сердца князей к шумному разгулу. Старики рассказывали о старых проказах своих, молодые – о травлях, охотах, ловах и о красных девушках. Но на лицах некоторых мрачная дума хмурила брови и являла смущение. Многие замечали отсутствие того щи другого.
«Князья и бояре! Князь Великий Василий Васильевич и княгиня Великая Марья Ярославовна просят их княжескому хлебу и соли честь отдать!» – раздались наконец повсюду призывы. Собрание взволновалось; все спешили идти за ужин.
Глава IV
На дне чарки правда положена,
Да, правду ту бес стережет:
Ты за нее ухватишься,
А он за тебя уцепится…
Старинная песня
Мы не будем подробно описывать великокняжеского свадебного стола и только в немногих словах изобразим зрелище пирования князей и бояр, княгинь и боярынь, беспрерывно желавших здравия и счастия Василию Васильевичу, Марье Ярославовне и Софье Витовтовне. Не дивитесь частым изъявлениям их усердия: за желание платы не берут, и каждое желание гостей сопровождалось притом кубком меду доброго, или вина душистого.
Тогда не было еще узорчатой Грановитой палаты, где обильным хлебосольством и восточным гостеприимством удивляли потом собеседников своих русские цари. Тогдашняя столовая палата выходила рядом окошек к житному двору, двумя выходами касалась переходов к дворцовым поварням и к другим торжественным комнатам. Это была обширная зала; у средней стены ее было приготовлено особое седалище, походившее на трон, с высоким балдахином, для молодых Великого князя и Великой княгини. Он и она сидели вместе, на одной широкой скамье, покрытой бархатною подушкою. За одним столом с ними сели: княгиня Софья Витовтовна, князь Константин Димитриевич, князья Александр Ярославский, Иоанн Рязанский, Иоанн Зубцовский, Косой, Шемяка, князья Можайский и Верейский, князь Юрья Патрикеевич, князь Василий Боровский, брат Марии Ярославовны и несколько почетных поезжан. За двумя другими длинными столами сели бояре и князья, подручные и служивые с одной, жены и матери их с другой стороны. Красиво устроенные яства занимали середину столов; множество бояр и сановников стояло за поставами напитков; другие наблюдали за порядком яств и услугою, распоряжая блюдами.
Если бы мы хотели удивить археографическими познаниями, нам легко можно бы было выбрать из старинных летописей и записок названия разных блюд, составлявших столы у наших предков. Чем затруднительнее и непонятнее были бы названия, тем более изумились бы читатели нашей глубокой науке и опытности в древностях русских.
Но мы не хотим этого и скажем просто, что в старину не щеголяли изяществом кушанья, а хотели только, чтобы «яств и питья в столах было много, и всего изобильно». Роскошь означала множество кушаньев – холодных, жарких, похлебок, но состав всего был весьма прост: мяса, рыбы, птицы были без затей варены, жарены, подаваны с подливками. К этому прибавлялось множество курников, караваев, сырников, пирогов – рассольных, торговых, подовых, кислых, пряженых, яичных; пряников, блинов, цукатов, смокв, овощей, марципанов, имбирников. Число кушаньев доходило до ста, до двухсот разборов числом, считая подаваемое князьям и боярам, которым подносили яства особо – и похуже, и поменьше. Это не означало скупости, но происходило от почета: знатные князья оскорбились бы, если бы их кормили наравне с великокняжескими рабами, хотя сии последние также князьями назывались.
Предоставим на сей раз воображению читателей наших – представить им полную картину великокняжеского свадебного стола: громады кушанья, множество напитков, золото, серебро на столах, чинную услугу, громкий хор певчих, при первом блюде запевших «большие стихи из праздников и из триодей драгие вещи, со всяким благочинием».
Хор умолк. Глубокая тишина настала в столовой палате. Никто не смел прервать ее, потому что старики князья еще ели и не начинали беседы, а молодые не смели из-за них подать повод к речам, неуместным каким-нибудь словом.
Желали бы мы спросить людей, бывавших на чужой стороне: заметили ль они у народа чужеземного русский обычай – за хлебом, солью не ссориться? Когда люди не любовные сели у нас за один стол, то разве только зоркий взгляд знающего их взаимные отношения проникнет в их души, дощупается их сердец. Добр, да и хитер русский. На светлом, праздничном лице гостя не узнаете вы, что обуревает душу его в те мгновения, когда медовая речь льется из уст его в замену меда, вливаемого в уста. Хмель не развяжет языка русскому; если он сам не захочет развязать его, иногда и нарочно; оправдываясь потом хмелиною.
Из всего, что мы доселе рассказали, можно понять – в самом ли деле искреннее веселье оживляло гостей великокняжеских, как это казалось по наружному виду их? Но однообразно веселы казались все, кроме двух особ – Софьи Витовтовны и Василия Юрьевича Косого.
Софья Витовтовна напрасно хотела скрыть гнев, досаду, сердце свое: все это выражалось из отрывистых слов ее, порывистых движений и огня, сверкавшего в ее глазах, когда они обращались на князя Василия Юрьевича. Брови Василия Косого сильно были нахмурены; он казался рассеянным; ему ни пилось, ни елось; мрачная дума виднелась в лице его; он говорил мало, угрюмо, улыбался принужденно и тяжело.
Первая перемена кушанья сошла со стола. Старший по летам, почетный гость, князь Ярославский, утер бороду шитым утиральником, выпил из кубка, поставленного в это мгновение перед ним, и обратил речь к Туголукому, еще не кончившему двойного участка кушанья, им взятого.
– Устарел ты, князь Иван Борисович, как посмотрю я на тебя, – сказал князь Ярославский, – видно, брат, и зубы-то отказываются от работы!
«А с чего бы ты изволил так заключать, дорогой куманек мой?» – возразил Туголукий.
– Как с чего? Отстаешь от других. Хорошо, что хозяйка любит тебя и жалует, а то если бы велела подавать, не дожидаясь твоего череду, так ты остался бы в полупире, когда другие его окончили бы.
«С нами крестная сила! – Ведь над нами не каплет, а уж с добрым кушаньем я расставаться скоро не люблю».
– И он не расстался бы с ним, хотя бы ливнем дождь полил на его голову, – сказал князь Рязанский.
Общий смех зашумел между собеседниками, со всех сторон посыпались шутки.
– Вот говорят, что дураки ни к чему не годятся, – сказал тихо Шемяка сидевшему подле него князю Верейскому, – а чем бы начать теперь нашу беседу, если бы нельзя было дать оплеухи по роже Туголукого? ~ Верейский засмеялся.
Туголукий начал креститься. Его спрашивали о причине, «Я радуюсь тому, что князь Димитрий Юрьевич еще не онемел, – сказал Туголукий. – Он так был молчалив во все время, что я начинал думать: не наложил ли он на себя обет молчальника!»
– У тебя плохая привычка, князь Иван Борисович, – сказал Шемяка, – сперва сказать, а потом подумать.
«Меньше думай, долее проживешь, – возразил князь Тверской. – Иван Борисович следует этому присловью – и дельно!»