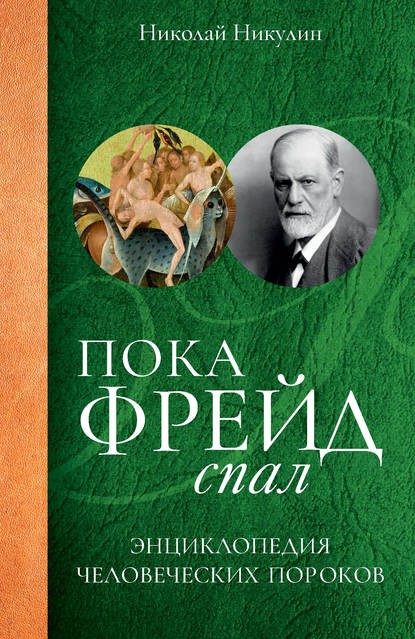По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пока Фрейд спал. Энциклопедия человеческих пороков
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3
Ворчливые люди – великие болтуны. Едва ли их можно заткнуть примиряющими аргументами: «Успокойся, все хорошо, давай просто получим удовольствие от прогулки». Но и это их не остановит – и уж тем более не заткнет. Любой непроизвольный ветерок, любая трещина в асфальте, любое постороннее движение – все вызовет у него живейший интерес к разговору о том, как внешний мир неучтив по отношению к нему. Будь то Высшая Сила, Судьба, правительство, общество, друзья, ничего не останется без эмоционального разбора и промывания их косточек.
И ладно бы в их речи проскальзывали занимательные факты о мироустройстве нашей Вселенной, философии Лейбница и Шопенгауэра, богословии Фомы Аквинского и Кемпийского, ан нет: слушай брюзжание о суете дней, начиненное бытовыми подробностями из жизни посредственности.
И что интересно, ворчливые люди совершенно не замечают своего ворчания. Совершенно. Он сделает подарок, а затем будет упрекать тебя в том, что ты неверно им распорядился.
– Тебе он не понравился? – спросит ворчун.
– Нет, что ты, мне он пришелся по вкусу.
– А почему тогда ты им не пользуешься?
– Даже не знаю, – ответишь ты и задумаешься: «Что за глупые вопросы? И почему я должен на них отвечать?»
После чего последует его негодование:
– Какой ты капризный.
Именно «капризный» – одно из любимых слов ворчуна. Они вообще частенько находят в людях то, что в себе пристально скрывают или не желают видеть. Пригласит он, к примеру, тебя в гости, приготовит что-нибудь с особенным тщанием, подаст на стол, а ты вежливо откажешься: «Спасибо, но я не голоден». С того момента отсчитывай секунды, когда будет произнесено слово «капризный». «Я ему и так и эдак угодить, а он – отказывается».
Для ворчуна каприз – что-то вроде козырного короля в карточной игре под названием жизнь. Человек такого типа всегда найдет, к чему пристать или за что зацепиться. Но легче всего это делать с поступками людей, которые не отвечают этическим представлениям о должном (то есть о том, как надо и как не надо). Если поступок другого человека не вписывается в идеальную картину мира, то этот поступок тотчас же будет наречен неверным. И тогда носитель действия обречен на клеймо «капризный», или «странный», или «глупый». Ведь каприз, в сущности, это некое упорство в своих желаниях. Но для ворчливого человека любое другое мнение или недостойное поведение сродни упорству делать по-своему: «Не как все люди поступает». Хотя если бы «все люди» были подобны ему, то и его поступки квалифицировались бы весьма капризными. Ворчливость индивидуальна, как ни крути.
Впрочем, оставим пресловутых людей в стороне – ворчуну нет разницы, на кого роптать. Сколько было в истории случаев, когда человек сердился на Бога, словно Тот был повинен во всех бедствиях в мире.
И ладно бы он был атеистом или агностиком (это слово, как правило, кичливо используют для обозначения неопределенности), так нет – верующий. Только верующий с ворчливым характером: покуда все в этой жизни происходит по воле Творца, то и несчастья безусловно дело Его рук.
И вот он обращается к Небесам со своим списком претензий: если Бог всемилостив и справедлив, то почему допускает зло в мире? Повинен ли Он в слезах детей? И где Он был, когда пять лет назад соседи удавили друг друга из-за разногласий по философии Иммануила Канта?
Другое дело – Блаженный Августин. Вот он выработал безупречную форму – исповедь. Это не сетования и ворчания на окружающую действительность, а попытка разобраться в себе. Иными словами, диалог, а не режим монолога. Постойте, рьяно закричит атеист, какой же диалог возможен с Высшей Силой? Но не обязательно слышать речь, чтобы получать ответы на свои вопросы. Исповедь – это, говоря языком высоких технологий, вещь интерактивная, как голосование на радио. Отдача есть всегда – и ты ее чувствуешь. А ведь первым ее придумал Августин, а как давно это было, на заре христианской философии!
Исповедь нежна и поэтична, в ней нет ни доли агрессивности и злобы. Другое дело – ворчание. Оно не предполагает ответа. Собственно, даже когда ворчуном пишется жалоба, то она, по сути, не нуждается в отклике. Он ей просто не нужен, как не нужен ответ на риторический вопрос. Это разговор с самим собой: не то попытка выместить свою злость, не то грациозное упражнение в риторике.
Так, уже упоминавшийся ритор Либаний в одной из своих речей говорил о подобных людях: «Кто красив, но ростом невысок, упрекает судьбу в несправедливости, а себя считает злополучным, так же и тот, кто высок ростом, но не красив; тот, у кого есть оба этих качества, сетует, зачем он не силен, а у кого есть все три, упрекает богиню в том, что он не скороход». Но этим стенания ворчуна, по мнению Либания, не исчерпываются! «И даже если человек вкусит от всех даров судьбы, он сидит, испуская стоны по поводу того, что человеку неминуемо суждено умереть».
4
Вообще, формат жалоб – это риторика наших дней. И вероятно, лишь ворчуны прибегают к ним. В этом смысле они гордо продолжают традицию великих древних ораторов – те тоже были не святыми и отличались не только строптивым нравом, но и предвзятой позицией.
Жалоба обычно пишется следующим образом.
1. Находится лицо, повинное во всем. Конечно, это может быть и вся организация, но не желательно, так как объект жалобы будет не персонифицирован. Все собаки вешаются на бедолагу (пусть он даже невиновен, но в данном случае должен хоть кто-то стать сакральной жертвой!).
2. Обвинения идут по всем фронтам. Сначала жалоба метко бьет по действиям человека, которые по определению несовершенны. Затем бьют по бездействию: так почему же вы ничего не сделали, дабы положение изменить? Непорядок.
3. В обвинениях должно содержаться много восклицаний. Эмоциональность добавляет искренности в отличие от официального языка. К чему сухие факты и безжизненные слова этих дипломатов, когда есть настоящий язык – язык обиженных людей? Со стороны это выглядит симпатично и вызывает одобрение.
4. Находятся сторонники жалобы. Эта сторона процесса так вообще одна из самых важных. Если не найти сторонников борьбы за права животных, женщин, толстых, высоких, волосатых и пр., организация ворчунов просто будет недееспособна. Поставьте подпись под петицией – поддержите их.
Чего таить, некоторые общественные организации только на этом и делают деньги, собирая вокруг себя негодующие слои населения. Это ж как удобно: собрать в одном месте всех ворчунов и объединить их под общим лозунгом: «Долой!»
Отбросим наивность в сторону: это не романтические «Долой», которые, скажем, были представлены у Маяковского в поэме «Облако в штанах»: «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию». Едва ли можно было поэта-футуриста назвать ворчуном – во всяком случае, ворчуны не кончают жизнь самоубийством, поскольку себя любят значительно больше, чем остальных. Его «долой» – это вызов обществу, его мещанским ценностям.
Ворчунское же «долой» – это прямое продолжение этого мещанства: побеситься на месте, выпустить пар, проклинать всех и вся, а потом прийти в себя и продолжить жить как ни в чем не бывало. Его «долой» – плевок в лицо врагу, но не его уничтожение. Без врага исчезнет потребность в ворчании (в конце концов, не с собой же собачиться?). Враг обязан быть – а на кого еще можно будет перенести свое плохое настроение, а главное, причины своих неудач? Только на стороннего человека. Для этого и нужен враг. Он нужен многим. И даже приличным людям в костюмах, называющих себя политиками.
5
Но повествование было бы предательски неполным без упоминания о старческой ворчливости. Элементарные правила приличия, впрочем, не позволяют раскрыть тему масштабно, с живописными подробностями из жизни и наглядными примерами вопиющей ворчливости. Это во времена Средневековья можно было собрать вокруг себя зевак и с площадной откровенностью бичевать пороки. Время нынче другое, вежливое.
Однако пройти стороной многовековой опыт высмеивания старческой ворчливости просто невозможно – хотя бы во имя высоких научных целей.
Брюзжание стариков – вещь совершенно не новая. Еще, говорят, в египетских папирусах находили письмена о том, как старшее поколение было недовольно младшим. Еще бы, какой вздор – переделывать то, что уже и так священно и установлено предками. Молодежь уже виновата в том, что родилась в другое время, а значит, и представление о добре и зле у нее совсем другое. Не то чтобы эти представления менялись каждые сорок лет, пересматривались серьезными мыслителями на академических прениях, однако природа вещей такова: если бы мы до сих пор жили по представлениям древних, то так бы и верили, что мир стоит на трех китах и черепахе. Так и жгли бы несогласных на кострах невежества в приступах злобы и, разумеется, подспудной ворчливости.
Верно изрек Оскар Уайльд: «Людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнения о чем-нибудь, что произошло только вчера, и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали…»
Но старикам претят эти высоколобые аргументы. «Не умничай», – ворчат они. От многого ума много и страданий.
Почтенные старушки сторонятся идеологических споров, зато мнят себя за больших экспертов в области нравов. «Вот эта одежда смотрится слишком вызывающе», – задрав нос говорят они. Рваные джинсы они тотчас же намереваются зашить, а рубашку навыпуск неотлагательно заправить! (Хотя, быть может, встречаются и прогрессивные старушки, но они-то и лишены болтливого порока ворчливости.)
Словом, целью ворчания для них становится неостановимое время, безоглядно бегущее в непредсказуемое будущее. И пусть они срываются на молодежи – простим им этот порок (на кого же еще срываться, как на неопытных сорванцов?), – главной виновницей их роптания все же является именно оно, время, которое не вернуть. Даже читая Пруста «В поисках утраченного времени», ты пребываешь затем в поисках потраченного времени. Ведь пока ты читал – время необратимо уходило. Впору было бы и поворчать, но читающий книги человек, пусть и обладающий дюжиной пороков, от ворчания застрахован. Так кажется.
Высокомерие
Глава о том, как все-таки приятно быть умнее других
«Если кому-либо не хватает даров природы, он возмещает этот изъян усиленной дозой самодовольства».
Эразм Роттердамский
1
Если бы эта глава писалась человеком высокомерным, то она бы не была написана. Причина проста: читатели все равно не поймут. Если бы высокомерного писателя учтиво попросили пояснить, то он бы отказался, сославшись на неуместность вопроса и, вообще говоря, глупость вопрошающего. Такой он, высокомерный индивид.
Высокомерному человеку живется очень хорошо на этом свете. Во-первых, наличие дураков вокруг позволяет демонстративно возвышаться надо всеми; во-вторых, рассыпанная в пространстве глупость дает право не напрягать свои извилины, поскольку и без этого ясно, кто тут самый умный; а в-третьих, если не замечать жалких и посредственных людей, то мир заметно пустеет – разве это не заветная мечта одинокого мыслителя?
Словом, куда ни взгляни, везде найдется рай для знающего себе цену человека. Ведь не будет же он утруждать себя поисками идеала на Земле, сам идеал должен его найти. В такой надменности, что и говорить, есть своя доля обаяния. Обаяния зла.
Кажется, едва ли не самым первым литературным героем – достаточно высокомерным, чтобы его образ отталкивал от себя, – был дьявол. К Библии не во все времена относились с должным религиозным трепетом, встречались и такие художники, которые толковали тот или иной сюжет весьма своенравно. Так, прославленный английский поэт Джон Мильтон в своем «Потерянном рае» изображает дьявола как первого революционера в истории, бунтаря. Дескать, был он жаден до знаний, но, по всей видимости, не сыскал в своем окружении одобрения и был низринут. Но он, этакий гордец, вознамерился отомстить и, главным образом, поменять порядок вещей. Разумеется, у него ничего не получается (все-таки везде должно побеждать добро), однако зло выиграло в одном – в читательских симпатиях. Ах, как дерзок этот герой, как он смел!
Зло вообще имеет свойство быть вполне себе привлекательным. Тут к Бодлеру за советом не ходи, и так все очевидно. И злодеи – будь то литературное произведение или кинематографическое (где это показано еще нагляднее) – вызывают симпатию как раз за свою природную надменность. На кого ни взглянешь, так он желает одурачить весь мир или, чего хуже, его поработить. Планы колоссальные, для этого одной удачи мало, без хитрости не обойтись.
Это обыватели живут слепыми мечтами: надеются на счастливое будущее, стоически принимают настоящее, не задаются вопросами о целях в жизни и отправляют свой мозг в долгосрочный отпуск. Но есть и другой слой людей, которым претит слово «средний», для которых неприхотливый выбор сводится исключительно ко всему лучшему, которые познание ставят на первое место. Для них история народов ассоциируется с историей порабощения человеческой мысли. Во все времена традиция и религия учили тому, что опыт предков важнее научного познания и делали человека невежественным. Пресловутый дьявол в облике змея, предлагавший вкусить плода с древа познания добра и зла, быть может, выполнял и благостную функцию – дать человеку возможность узнать правду, но эту правду в результате дозволено было знать лишь только Богу. Не ставь себя на его место, не возгордись!
Еще говорят: «Не выпендривайся», «Не отличайся от остальных». Какие затертые, заезженные слова – аргумент для темной массы. Высокомерный человек даже не замечает столь жалких требований, он живет той жизнью, которую выстраивает сам.
2
Наука, к слову, по определению несет в себе вызов обществу. Наука старается изменить уклад вещей. Вдумывается в основы мира. Критически анализирует. В общем, занимается делом достаточно порочным, если не сказать греховным.