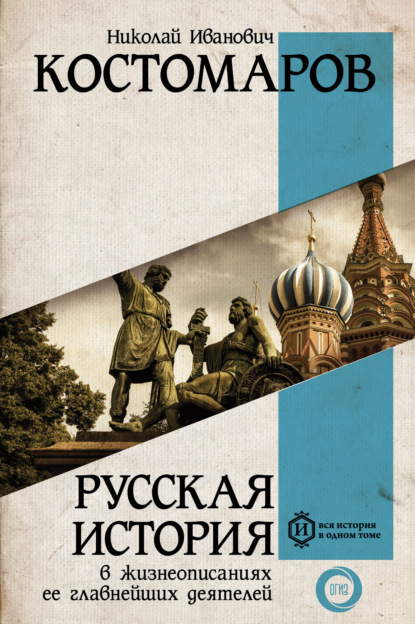По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей
Жанр
Серия
Год написания книги
1885
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Царь Борис Федорович Годунов
Воспитанный при дворе Грозного, сам будучи человеком лживым и хитрым, Борис был всегда подозрителен, недоверчив и окружал себя шпионами, но в первые годы его царствования ему не представлялось необходимости преследовать своих врагов, несмотря на то что у него их было много. Пока Борису ничего не угрожало, он казался щедрым, добрым, снисходительным. Вдруг в конце 1600 года стал в народе ходить слух, что царевич Дмитрий не убит, а спасен друзьями и где-то проживает до сих пор. Этот слух доходил тогда до служившего в войске Годунова француза Маржерета и, следовательно, должен был дойти до Бориса. С того времени нрав Бориса изменяется, исчезает мягкосердечие. У него была одна цель – утвердить себя и свой род на престоле. Для этой цели он стал некогда жестоким гонителем Шуйских и всех своих врагов, истребителем Углича; для этой цели он сделался добродушным и милосердым, для той же цели ему опять приходилось сделаться мрачным и свирепым, потому что кроткие средства, по-видимому, не удавались. Из слуха о Дмитрии он понял, что у него есть опасные враги, а у этих врагов может быть страшное орудие. Надо было во что бы то ни стало найти это орудие, истребить своих врагов, иначе пришлось бы потерять плоды трудов всей жизни. Положение Годунова было таково, что он не посмел разглашать, чего ищет, что преследует, какого рода измены страшится. Заикнуться о Дмитрии – значило вызывать на свет ужасный призрак. Притом Борис не мог быть вполне уверен, что Дмитрия точно нет на свете. Оставалось хватать всех, кого можно было подозревать в нерасположении к воцарившемуся государю, пытать, мучить, чтобы случайно напасть на след желаемой тайны. Так и поступал Борис.
Он напал на Богдана Вельского: этот человек был ближе всех к Дмитрию. Сосланный при воцарении Федора, он через несколько лет был возвращен и вел себя очень сдержанно. Борис всегда считал его для себя опасным, а потому удалил из Москвы, поручив ему строить в украинских степях город Царев-Борисов. Вельский зажил там богато и содержал за свой счет ратных людей. Когда разнесся слух о Дмитрии, Борис придрался к Вельскому за то, что последний, как доносили царю, произнес под веселый час такие неосторожные слова: «Царь Борис в Москве царь, а я в Цареве-Борисове!» Вельского привезли в Москву, а потом сослали куда-то в Низовскую землю. Говорят даже, что Борис приказал выщипать его черную густую бороду, которой тот щеголял. С ним вместе ссылка постигла и других лиц.
След Дмитрия не был отыскан. Борис принялся за бояр Романовых. Этот род был самый близкий к прежней династии, они были двоюродными братьями покойного царя Федора. Романовы не были расположены к Борису. Борис мог подозревать Романовых, когда ему приходилось отыскивать тайных врагов. По известиям летописей, Борис придрался к Романовым по поводу доноса одного из их холопов, будто они посредством кореньев хотят извести царя и добыть «ведовством» (колдовством) царство. Четырех братьев Романовых – Александра, Василия, Ивана и Михаила – разослали по отдаленным местам в тяжелое заключение, а пятого, Федора, который, как кажется, был умнее всех их, насильно постригли под именем Филарета в монастыре Антония Сийского. Затем сослали их свойственников и приятелей – Черкасского, Сицкого, Репниных, Карповых, Шестуновых, Пушкиных и др. Ссылка постигла даже дьяка Василия Щелкалова, несмотря на прежнюю к нему милость и дружбу Бориса с его братом Андреем. Поместья и вотчины сосланных отбирались в казну, имущество продавалось, доносчики получали награды. Шпионство развилось до крайних пределов. По московским улицам, как говорят современники, «то и дело сновали мерзавцы да подслушивали», и чуть только кто заведет речь о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают – и в пытку… Где только люди соберутся, там являются соглядатаи и доносчики. Все пустились на доносы, потому что это было выгодно. Доносили друг на друга попы, дьяконы, чернецы, черницы, жены на мужей, отцы на детей; бояре и боярыни доносили одни на других: первые царю, вторые – царице. У холопов вошло в обычай составлять на господ доносы, и чуть извет казался правдоподобным, господ поражала опала, а холопам давали свободу, записывали в число служилых, наделяли поместьями. Случалось и наоборот, что холопы стояли за своих опальных господ и хотели оправдать их. Таких холопов предавали пыткам, и если они не выдерживали горячих угольев и кнута и путались в показаниях, то им резали языки. Вообще достаточно было одного обвинения в недоброжелательстве государю: подозреваемых тотчас подвергали пыткам, и если они под пыткой оказывались сколько-нибудь виновны, их заключали в темницы или отправляли в ссылку. Обычно обвиняли опальных в ведовстве. Борис упорно скрывал то, что он действительно искал, но высказывал другого рода страх, чтобы его и его семью не испортили чарами, наговорами, зельями. Донесли Борису, что уже в Польше поговаривают, будто законный наследник прежних государей московских жив. Борис, не упоминая имени Дмитрия, приказал поставить на западной границе караулы, всех задерживать и доносить ему. Так прошло несколько месяцев. Трудно было переезжать из города в город. Все знали, что ищут каких-то важных преступников, но никому не объявляли, кого ищут. По всему Московскому государству было схвачено и перемучено множество невинных людей, а того, кого нужно было Борису, не находили.
Царевна Ксения Борисовна и царица-инокиня Марфа. Рисунок С. Соломко из книги «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»
Марина Мнишек
В те тяжелые времена доносов и пыток постиг Русь страшный голод, довершивший подготовку к потрясениям. Уже в 1601 году из-за дождливого лета и ранних морозов случился во многих местах неурожай; зимой в Москве цена хлеба дошла до пяти рублей за четверть. В следующем году (1602) был такой же неурожай. Тогда постигла Московское государство такая беда, какой, как говорят современники, не помнили ни деды, ни прадеды. В одной Москве, куда стекались со всех сторон толпы нищих, погибали десятки тысяч, если верить русским и иностранным известиям. Бедняки ели собак, кошек, мышей, сено, солому и даже в припадке бешенства с голоду пожирали друг друга. Вареное человечье мясо продавалось на московских рынках. Дорожному человеку опасно было заехать на постоялый двор, потому что его могли зарезать и съесть. Тем не менее современники свидетельствуют, что в то время не было на Руси недостатка в хлебе. В окрестностях Курска и на Северской земле урожаи были очень хороши. Около Владимира-на-Клязьме и в разных уездах украинных городов стояли полные одонья необмолоченного хлеба прошлых годов. Но мало было людей, готовых жертвовать личными выгодами для общего дела. Напротив, большая часть старалась извлечь себе корысть из общего бедствия. Нередко зажиточный крестьянин выгонял на голодную смерть свою челядь и близких сродников, а запасы продавал по дорогой цене. Иной мужик-скряга боялся везти свое зерно на продажу, чтобы у него по дороге не отняли голодные, и зарывал его в землю, где оно сгнивало без пользы. Другому удавалось продать хлеб и взять огромные барыши, но потом он трясся над деньгами от страха, чтобы на него не напали. Московские торговцы заранее накупили множество хлеба и держали под замками в своих лабазах, рассчитывая продать тогда, когда цены подымутся донельзя. Борис преследовал их, велел отбирать у них хлеб и отдавать беднякам, а хозяевам оплачивал по умеренным ценам. Но посланные сталкивались с продавцами хлеба, иногда не показывали найденного у них хлеба, а иногда продавцы хлеба отдавали на продажу по установленной тогда цене гнилой хлеб. Борис приказал отворить все свои житницы, продавать хлеб дешевле принятой цены, а бедным раздавать деньги. Но в Московской земле, по замечанию современников, должностные лица оказались плутами: они раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем, которые делились с ними барышами. Их сообщники, одевшись в лохмотья, приходили вместе с нищими и получали деньги, а настоящих нищих разгоняли палками. Раздача милостыни продолжалась с месяц, потом Борис рассудил, что она только обогащает плутов и скапливает голодный народ в столице; может объявиться зараза; притом подозрительный царь боялся большого стечения народа, чтобы не произошло бунта. Он запретил раздачу. Это было в такое время, когда весть о щедрости царя распространилась по отдаленным областям и в Москву шли отовсюду толпы народа за пропитанием: вдруг разразилось над ними прекращение раздачи милостыни. Многие погибали на дороге; голодные собратья терзали их трупы наравне с волками и собаками. Борис, однако, не оставил народа совершенно без внимания, но вместо раздачи милостыни в Москве посылал чиновников забирать необмолоченный и обмолоченный хлеб у землевладельцев в разных местах, покупать его по установленной правительством цене и доставлять в места, где был голод. Однако посланные от царя лица брали с землевладельцев взятки и не показывали, что у них сохраняется хлеб. Притом же и доставка хлеба с одного места в другое была затруднительна, потому что голод разогнал ямщиков, трудно было доставать подводы и лошадей.
Лжедмитрий I
Современники говорят, будто в те ужасные годы в одной Москве погибло до 127 000 человек, погребенных в убогих домах (так назывались общие кладбища для бедных, а также для найденных убитыми), не считая тех, которые были погребены у церквей.
Борис, однако, не хотел, чтобы весть о таком печальном положении народа в его государстве дошла за границу, и предполагал, что это можно утаить. Поэтому, когда по окончании голода в Москву приехали иноземные послы, Борис приказал всем наряжаться в цветные платья, а беднякам запрещено было в своих лохмотьях появляться на дороге. Смертная казнь обещана была тому, кто станет рассказывать приезжим иноземцам о бедствиях Московского государства. Между тем в то время сам царь Борис перенес семейную невзгоду. После удаления Густава, принца шведского, в Углич Борис стал подыскивать другого жениха для своей дочери среди иностранных принцев, и вот брат датского короля Иоанн в августе 1602 года очень понравился Борису, но в октябре того же года умер от горячки. Годунов и вся его семья тосковали по нему, а в народе стал носиться слух, будто сам Борис отравил его из боязни, чтобы москвичи, полюбив зятя Бориса, не избрали его царем вместо сына Бориса. Русские готовы были тогда всякое злодеяние приписать своему царю; ненависть к нему возрастала. Никто не любил его, дорожили им только те, кого соединяла с ним личная выгода, а главное – шпионы, которым он платил за их гнусное ремесло. Возникло в народе убеждение, что царствование Бориса не благословляется небом, потому что, достигнутое беззаконием, оно поддерживается неправдой; толковали, что если утвердится на престоле род Годунова, то не принесет Русской земле счастья. Люди родовитые оскорблялись и тем, что на царском престоле сел потомок татарина. Становилось желательным, чтобы нашелся кто-то, имевший в глазах народа гораздо больше прав перед Борисом. Таким лицом был именно Дмитрий, сын прежнего государя. Мысль о том, что он жив и вскоре явится отнимать у Бориса похищенный престол, все более и более распространялась в народе, а суровые преследования со стороны Годунова скорее поддерживали ее, чем искореняли. И вот в начале 1604 года перехвачено было письмо, написанное одним иноземцем из Нарвы; в этом письме говорилось, что объявился сын московского царя Ивана Васильевича Дмитрий, находится будто бы у казаков, а Московскую землю вскоре постигнет большое потрясение. Вслед за тем пришли в Москву люди, взятые в плен казаками под Саратовом и отпущенные на родину: они принесли весть, что казаки грозят вскоре прийти в Москву с царем Дмитрием Ивановичем.
Дом, в котором жил царевич Дмитрий в Угличе
Присяга русских в XVII столетии. С современной гравюры
Народ ожидал чего-то необычайного. Давно передавались рассказы о разных видениях и предзнаменованиях. Ужасные бури вырывали с корнем деревья, опрокидывали колокольни. Там не ловилась рыба, тут не видно было птиц. Женщины и домашние животные производили на свет уродов. В Москву забегали волки и лисицы; на небе стали видеть по два солнца и по два месяца. Наконец летом 1604 года появилась комета, и астролог немец предостерегал Бориса, что ему грозят важные перемены.
В.Г. Шварц. Русский посол при дворе римского императора
Царь Борис, услышав, что в Польше объявился какой-то человек, выдававший себя за Дмитрия, начал с того, что велел учредить на литовской границе крепкие заставы и не пропускать никого ни из Литвы, ни в Литву под предлогом, будто в Литве свирепствует какое-то поветрие, а внутри государства умножил шпионов, которые всюду прислушивались: не говорит ли кто о Дмитрии, не ругает ли кто Бориса. Обвиненным резали языки, сажали их на колья, жгли на медленном огне и даже по одному подозрению засылали в Сибирь, где предавали тюремному заключению. Борис сделался недоступным, не показывался народу. Просителей отгоняли пинками и толчками от дворцового крыльца, а начальные люди, зная, что до царя не дойдут жалобы на них, безнаказанно совершали разные насилия, чем увеличивали вражду народа к существующему правительству. Между тем в Москву давали знать, что в польской Украине под знаменем Дмитрия собирается ополчение и со дня на день нужно ждать вторжения в московские пределы; в июле посланник немецкого императора сообщил от имени своего государя по соседской дружбе, что в Польше появился Дмитрий и надо принимать против него меры. Борис отвечал цесарскому посланнику, что Дмитрия нет на свете, а в Польше объявился какой-то обманщик, которого царь не боится. Однако, посоветовавшись с патриархом, Годунов находил, что нужно же объяснить и самим себе, и народу, кто такой этот обманщик. Стали думать и придумали, что это, должно быть, бежавший в 1602 году Григорий Отрепьев. Он был родом из галицких детей боярских, постригся в Чудовом монастыре и был крестовым дьяком (секретарем) у патриарха Иова. Начали распространять исподволь в народе слух, что объявившийся в Польше обманщик – именно этот беглый Григорий Отрепьев, но не решались еще огласить о том во всеуслышание. В сентябре послали в Польшу гонцом Смирного-Отрепьева, дядю Григория, и распространили в народе слух, что его посылают для обличения племянника, но на самом деле отправили его с грамотой о пограничных недоразумениях и не дали никакого поручения о том человеке, который назывался Дмитрием. Царь Борис, вероятно, рассчитывал, что лучше помедлить с решительным заявлением об Отрепьеве, так как сам не был уверен в его тождестве с названым Дмитрием. Он приказал привезти мать Дмитрия и тайно допрашивал ее: жив ли ее сын или нет? «Я не знаю», – ответила Марфа. Тогда царица, жена Бориса, пришла в такую ярость, что швырнула Марфе горящую свечу в лицо. «Мне говорили, – сказала Марфа, – что сына моего тайно увезли без моего ведома, а те, что так говорили, уже умерли». Рассерженный Борис велел ее отвезти в заключение и содержать с большой строгостью. Между тем 16 октября названый Дмитрий с толпой поляков и казаков вступил в Московское государство. Города сдавались ему один за другим. Служилые люди переходили к нему на службу. В ноябре он осадил Новгород-Северский, но был отбит посланным туда воеводой Басмановым. После того царь выслал против Дмитрия войско под главным начальством Федора Мстиславского. Это войско 20 декабря потерпело неудачу. Дальше скрываться перед народом было невозможно. Послушный Борису патриарх Иов взялся объяснить Русской земле запутанное дело. Первопрестольник русской церкви, обходя благоразумным молчанием вопрос о том, как не стало Дмитрия, уверял в своей грамоте народ, что называющий себя царевичем Дмитрием есть беглый монах Гришка Отрепьев; патриарх ссылался на свидетельство трех бродяг: чернеца Пимена, какого-то Венедикта и ярославского посадского человека иконника Степана; первый провожал Отрепьева вместе с товарищами Варлаамом и Мисаилом в Литву, а последние два видели его в Киеве и знают, что Гришка потом назвался царевичем. Патриарх извещал, что он с освященным собором проклял Гришку и всех его соучастников, повелевал во всех церквах предавать анафеме его и с ним всех тех, кто станет называть его Дмитрием. Вслед за тем в феврале 1605 года из Москвы отправили в Польшу гонца Постника Огарева уже с явным требованием выдачи «вора». Борис заявлял королю и всей Польше, что называющий себя Дмитрием есть ни кто другой, как Гришка Отрепьев. На сейме в то время Ян Замойский сильно осуждал Мнишека и Вишневецких, подавших помощь претенденту; говорил, что со стороны короля поддерживать его и из-за него нарушать мир с московским государем бесчестно; доказывал, что называвшему себя Дмитрием верить не следует. «Этот Димитрий называет себя сыном царя Ивана, – говорил Замойский. – Об этом сыне у нас был слух, что его умертвили. Он же говорит, что на место его умертвили другого! Помилуйте, что это за Плавтова или Теренцева комедия? Возможное ли дело: приказали убить кого-то, да притом наследника, и не посмотрели, кого убили! Так можно зарезать только козла или барана! Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол, то и кроме Димитрия есть законные наследники – дом Владимирских князей: право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей». Большинство панов также не расположено было поддерживать Дмитрия, но поскольку его уже не оказалось в Польше, то царский гонец получил такой ответ, что этого человека легче достать в Московском государстве, чем в польских владениях.
Ни патриаршая грамота, ни обряд проклятия не расположили к Борису народные сердца. Московские люди считали все уверения патриарха ложью. «Борис, – говорили они, – поневоле должен делать так, как делает, а то ведь ему придется не только от царства отступиться, но и жизнь потерять». Насчет проклятия говорили: «Пусть, пусть проклинают Гришку! От этого царевичу ничего не станет. Царевич – Димитрий, а не Гришка». Шпионы Бориса продолжали подслушивать речи, и не проходило дня, чтобы в Москве не мучили людей кнутом, железом и огнем.
21 января 1605 года войско Годунова под начальством Мстиславского и Шуйского одержало верх над Дмитрием, и Дмитрий ушел в Путивль. Борис был очень доволен, щедро наградил своих воевод, особенно обласкал Басманова за его упорную защиту Новгорода-Северского; но народ, услышав о неудаче названого Дмитрия, пришел в уныние. Борис вскоре понял, что сила его врага заключается не в той военной силе, с которой этот враг вступил в государство, а в готовности и народа, и войска в Московском государстве перейти при первом же случае на его сторону, так как все легко поддавались уверенности, что он настоящий царевич. Когда Дмитрий оставался в Путивле, украинные города Московского государства один за другим признавали его, а в Путивль со всех сторон приходили русские бить челом своему прирожденному государю. Имя Гришки Отрепьева вызывало один смех. Сам Борис не мог поручиться, что его враг – не царевич Дмитрий. Годунов, обласкав Басманова, уверял его, что названый Дмитрий является обманщиком, и сулил ему золотые горы, если он достанет злодея. Говорят, царь даже обещал выдать за Басманова свою дочь и в приданое за ней дать целые области. Басманов сказал об этом родственнику Бориса, Семену Никитичу Годунову, а тот из зависти, что Борис слишком возвышает Басманова, выразил ему сомнение: не в самом ли деле этот Дмитрий настоящий царевич? Слова эти запали в сердце Басманова; несмотря на все уверения Бориса, он стал склоняться к мысли, что соперник Годунова действительно Дмитрий и рано или поздно возьмет верх над Борисом. Басманов не верил ни заявлениям, ни обещаниям Бориса: он знал, что этот лживый человек способен давать обещания, а потом не сдержит их.
Царь был в страшном волнении, обращался к ворожеям, предсказателям, выслушивал от них двусмысленные прорицания, запирался и целыми днями сидел один, а сына посылал молиться по церквам. Казни и пытки не прекращались. Борис уже в близких себе людях подозревал измену и не надеялся сладить с соперником военными силами; он решил попытаться тайным убийством избавиться от своего злодея. Попытка эта не удалась. Монахи, которых в марте подговорил Борис ехать в Путивль отравить названого Дмитрия, попались с ядом в руки последнего. Неизвестно, дошла ли до Бориса об этом весть, но вскоре ему пришел конец.
13 апреля, в неделю мироносиц, царь встал здоровым и казался веселее обычного. После обедни приготовлен был праздничный стол в Золотой палате. Борис ел с большим аппетитом и переполнил себе желудок. После обеда он пошел на вышку, с которой часто обозревал всю Москву. Но вскоре он поспешно сошел оттуда, говорил, что чувствует колотье и дурноту. Побежали за доктором; пока успел прийти врач, царю стало хуже. У него выступила кровь из ушей и носа. Царь упал без чувств. Прибежал патриарх, за ним явилось духовенство. Кое-как успели причастить царя Св. Тайн, а потом совершили наскоро над полумертвым пострижение в схиму и нарекли Боголепом. Около трех часов пополудни Борис скончался. Целый день боялись объявить народу о смерти царя, огласили только на другой день и начали посылать народ в Кремль целовать крест на верность царице Марии и ее сыну Федору. Патриарх объявил, что Борис завещал им свой престол. Тотчас пошли рассказы, что Борис на вышке сам себя отравил ядом в припадке отчаяния. Этот слух распустили немцы, доктора Бориса. На следующий день останки его были погребены в Архангельском соборе среди прочих властителей Московского государства.
Новый царь был шестнадцатилетний юноша, полный телом, бел, румян, черноглаз и, как говорят современники, «изучен всякого философского естествословия». Ему присягнули в Москве без ропота, но тут же говорили: «Не долго царствовать Борисовым детям! Вот Димитрий Иванович придет в Москву».
17 апреля отправился к войску назначенный его главным предводителем Петр Федорович Басманов с князем Катыревым-Ростовским. Мстиславского и Шуйского отозвали в Москву. Басманову оказывали больше всех доверия. Но этот человек уже давно стал колебаться. Надо было приводить к присяге войско. Для этого приехал новгородский митрополит Исидор с духовенством. Собрали войско произносить присягу сыну Бориса. Вдруг поднялся шум. Рязанские дворяне Ляпуновы первые закричали, что «знают одного законного государя Димитрия Ивановича». С ними заодно были все рязанцы; к ним примкнули служилые люди всех украинных городов; наконец имя Дмитрия Ивановича заглушило имя Федора, и митрополит Исидор со своим духовенством обратился вспять. Басманов написал повинное письмо Дмитрию и послал с гонцом, а сам собрал воевод – братьев Голицыных, Василия и Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова – и объявил им, что признает Дмитрия настоящим государем: «Все государство Русское приложится к Димитрию, – говорил он, – и мы все-таки поневоле покоримся ему, и тогда будем у него последними; так лучше покоримся ему, пока время, по доброй воле и будем у него в чести». С ним согласились и Голицыны, и Салтыков; но зазорно показалось некоторым из предводителей самим объявить об этом войску. Василий Голицын сказал Басманову: «Я присягал Борисову сыну; совесть зазрит переходить по доброй воле к Димитрию Ивановичу; а вы меня свяжите и ведите, как будто неволею». 7 мая Басманов собрал вторично войско и объявил, что признает Дмитрия законным наследником государей Русской земли. Священники начали приводить к присяге на имя Дмитрия Ивановича. Некоторые стали упрямиться, и их прогнали. Товарищ Басманова Катырев-Ростовский и князь Андрей Телятевский убежали в Москву.
К.В. Лебедев. Отказ Бориса Годунова от престола
В Москву пришло известие о переходе войска на сторону Дмитрия. Несколько дней в столице господствовала глубокая тишина. На иностранцев она навела страх: они поняли, что это затишье подобно тому, какое бывает в природе перед сильной бурей. Годуновы сидели в кремлевских палатах и по изветам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей грамот Дмитрия.
30 мая в Москве начались шум, суетня. Народ валил на улицы. Два каких-то молодца говорили, что видели за Серпуховскими воротами большую пыль. Разнеслась весть, что идет Дмитрий. Москвичи спешили покупать хлеб-соль, чтобы встречать законного государя. Годуновы пришли в ужас, выслали из Кремля бояр узнать: что это значит? Народ молчал. Но Дмитрия не было. Обман открылся. Народ стал расходиться. Многие еще стояли толпой на Красной площади; какой-то боярин начал им говорить нравоучение и хвалить царя Федора. Народ молчал.
На другой день, 31 мая, по приказанию Годуновых стали возводить на кремлевские стены пушки; народ глядел на это с кривляньями и насмешками.
1 июня дворяне Плещеев и Пушкин привезли грамоту Дмитрия и остановились в Красном селе. Народ, узнав об этом, подхватил гонцов и повез на Красную площадь. Ударили в колокола. Посланцев поставили на Лобном месте. На Красной площади образовалась такая давка, что невозможно было протиснуться. Вышли было из Кремля думные люди и закричали: «Что это за сборище, берите воровских посланцев, ведите в Кремль!»
Народ отвечал неистовыми криками и приказывал читать грамоту. Дмитрий извещал о своем спасении, прощал московским людям, что они по незнанию присягали Годуновым, припоминал всякие утеснения и насилия, причиненные народу Борисом Годуновым, обещал всем льготы и милости и приглашал прислать к нему посольство с челобитьем.
В толпе поднялось сильное смятение. Одни кричали: «Буди здрав царь Димитрий Иванович!» Другие говорили: «Да точно ли это Димитрий Иванович? Может быть, это не настоящий». Наконец раздались голоса: «Шуйского! Шуйского! Он разыскивал, когда царевича не стало. Пусть скажет по правде: точно ли похоронили царевича в Угличе?» Шуйского взвели на Лобное место. Наступила тишина. Шуйский громко сказал: «Борис послал убить Димитрия царевича; но царевича спасли; вместо него погребен попов сын».
Тогда вся толпа неистово заревела: «Долой Годуновых! Всех их искоренить! Нечего жалеть их, когда Борис не жалел законного наследника! Господь нам свет показал. Мы доселева во тьме сидели. Буди здрав, Димитрий Иванович!»
Толпа без удержу бросилась в Кремль. Защищать Годуновых было некому. Стрельцы, стоявшие на карауле во дворце, отступились от них. Федор Борисович бежал в Грановитую палату и сел на престол. Мать и дочь встали подле него с образами. Но ворвался народ; царя стащили с престола. Мать униженно плакала и просила не предавать смерти ее детей. Годуновых отвезли на водовозных клячах в прежний дом Бориса и приставили к ним стражу. Тогда схватили и посадили в тюрьму всех родственников и сторонников Годуновых, опустошили их дома, ограбили также немецких докторов и перепились до бесчувствия, так что многие тут же лишились жизни.
От Москвы поехали к Дмитрию выбранные люди: князь Иван Михайлович Воротынский и Андрей Телятевский с повинной грамотой, в которой приглашали законного царя на престол. Грамота была написана от лица всех сословий, а впереди всех поставлено было имя патриарха Иова. Невозможно решить: в какой степени участвовал в этом Иов; но после свержения Годуновых патриарх не удалялся и священнодействовал.
10 июня приехали в Москву князь Василий Голицын и князь Рубец-Масальский с приказанием устранить Годуновых и свести с престола патриарха Иова. Патриарха на простой тележке отвезли в Старицкий Богородицкий монастырь. Всех свойственников Годуновых отправили в ссылку по разным городам. Говорят, что таким образом сослали тогда 24 семейства. Наконец Голицын и Рубец-Масальский поручили дворянам Михаилу Молчанову и Шеферединову разделаться с семейством Бориса. Посланные взяли с собой троих дюжих стрельцов, вошли в дом и развели Годуновых по разным комнатам. Вдову Бориса удавили веревкой. Молодой Годунов, сильный от природы, стал было защищаться, но его ударили дубиной, а потом удавили. Царевна Ксения лишилась чувств; ее оставили живой на безотрадную жизнь.
Голицын и Масальский объявили народу, что вдова и сын Бориса отравили себя ядом. Тела их были выставлены напоказ. В заключение вынули из Архангельского собора гроб Бориса и зарыли в убогом Варсонофьевском монастыре (между Сретенкой и Рождественкой). Там же рядом с ним похоронили жену и сына без всяких обрядов, как самоубийц. Мы не знаем, действительно ли названый Дмитрий приказал совершить это убийство или же бояре без его приказания постарались услужить новому царю и сказали ему, что Годуновы сами лишили себя жизни, а он, хотя и понимал, как все случилось, но показывал вид, что верит их рассказам о самоубийстве Годуновых.
Василий Шуйский
Печальные обстоятельства предшествовавшей истории наложили на великорусское общество характер азиатского застоя, тупой приверженности к старому обычаю, страх всякой новизны, равнодушие к улучшению своего духовного и материального быта и отвращение ко всему иноземному. Но было бы клеветой на русский народ утверждать, что в нем совершенно исчезла та духовная подвижность, которая составляет отличительное качество европейских племен, и думать, что русские в описываемое нами время неспособны были вовсе откликнуться на голос, вызывающий их на путь новой жизни. Умные люди чувствовали тяжесть невежества; лица, строго хранившие благочестивую старину, сознавали, однако, потребность просвещения, по их понятиям, главным образом религиозно-нравственного; думали о заведении школ и распространении грамотности. Люди с более смелым умом обращались прямо к иноземному, чувствуя, что собственные средства для расширения круга сведений слишком скудны. Несмотря на гнет того благочестия, которое отплевывалось от всего иноземного, как от дьявола, в Москве, по известию иностранцев, находились лица, у которых стремление к познаниям и просвещению было так велико, что они выучивали иностранные языки с большими затруднениями, происходившими как от недостатка руководств и руководителей, так и от преследования со стороны тех, которые готовы были заподозрить в этом ересь и измену отечеству. Так, Федор Никитич Романов, нареченный по пострижении Филаретом, учился латыни; поляки в Москве видели людей, выучившихся тайком иностранным языкам и с жадностью хватавшихся за чтение. Афанасий Власов, рассмешивший поляков своими простодушными выходками, в то же время удивил их чистым латинским произношением, показывавшим, что язык латинский был ему знаком. О многих жертвах Ивана Курбский говорит как о людях ученых и начитанных для своего времени, и сам Курбский своим собственным примером доказывает, что московские люди XVI века не оставались совершенно неспособными понять пользу просвещения и необходимость сближения с иноземцами. У нас думали, что названый царь Дмитрий вооружил против себя русский народ своей привязанностью к иноземцам, пренебрежением к русским обычаям и равнодушием к требованиям тогдашнего благочестия. Но вглядываясь ближе в смысл событий, увидим не это: поведение Дмитрия действительно не могло нравиться строгим блюстителям неподвижности, но никак не большинству, не массе народа; так же, как и впоследствии великий преобразователь Руси, хотя и встретил против себя сильное, упорное и продолжительное противодействие, но никак не от всех, а напротив, нашел немало искренних сторонников и ревнителей своих преобразовательных планов: иначе бы, конечно, он и не успел. Гибель названого Дмитрия была делом не русского народа, а только заговорщиков, воспользовавшихся оплошностью жертвы; это доказывается тем, когда народ русский тотчас же обольстился вестью, что царь его, спасенный раз в детстве в Угличе, спасся в другой раз в Москве; народ русский почти весь последовал за тенью Дмитрия до тех пор, пока не убедился, что его обманывали и Дмитрия нет на свете. Сам способ убийства показывает, что народ был далек от того, чтобы погубить своего царя за его приемы, отличавшиеся от приемов прежних царей. Шуйский вооружил народ против поляков именем того же царя и таким обманом отвлек его внимание от Кремля. Количество соучастников Шуйского не могло быть велико; оттого-то Шуйский накануне убийства поспешил удалить из сотни караульных семьдесят человек: очевидно, он боялся не сладить с целой сотней. Таким образом, убийство Дмитрия было вовсе не народным делом.
Царь Василий Шуйский. Титулярник 1672 г.
Лжедмитрий I. Гравюра 1850 г.
Кто бы ни был этот названый Дмитрий и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он для русского общества был человеком, призывавшим его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев, и для выезжавших из него русских, объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести: все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им иную жизнь. Его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже подготовлялась именно этой свободой. Объявлена была война старой житейской обрядности. Царь собственным примером открыл эту борьбу, как поступил впоследствии и Петр, но названый Дмитрий поступал без того принуждения, с которым соединялись преобразовательные стремления последнего. Царь одевался в иноземное платье, царь танцевал, тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности; царь беспрестанно порицал русское невежество, восхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем: что бы впоследствии ни вышло из Дмитрия – все-таки он был человек нового, зачинающегося русского общества.
Марина Мнишек. Гравюра 1850 г.
Враг, погубивший его, Василий Шуйский, был совершенной противоположностью этому загадочному человеку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нем мы видим отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага и в то же время терпение и стойкость – качества, которыми русские приводили в изумление иноземцев; он гнул шею перед силой, покорно служил власти, пока она была могуча для него; прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедой, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был неспособен давать почин, избирать пути, вести других за собой. Ряд его поступков, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблять святыню для своих целей. Мелочной, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. Его хватило только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны. Знатность рода помогла ему овладеть престолом, главным образом оттого, что другие надеялись править его именем. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле, не исключая и Федора, слабоумие которого покрывал собой Борис. Сама наружность Василия была очень непривлекательна: это был худенький, приземистый, сгорбленный старичок, с больными подслеповатыми глазами, с длинным горбатым носом, большим ртом, морщинистым лицом, редкими бородкой и волосами.
Василию при вступлении на престол было уже за пятьдесят лет. Молодость свою он провел при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда его родственники играли важную роль в государстве, Василий оставался в тени. Опала, постигшая его родного брата Андрея, миновала Василия. Борис не боялся его, вероятно, считая его ничтожным по уму и притом всегдашним угодником силы; говорят, однако, Борис запрещал ему жениться, как и Мстиславскому. Василий все терпел и повиновался беспрекословно. Посланный на следствие по поводу убийства Дмитрия, Василий исполнил это следствие так, как нужно было Борису и как, вероятно, ожидал того Борис. Появился Дмитрий. Борис послал против него Шуйского, и Василий верно служил Борису. Бориса не стало. При первом народном восстании против Годуновых в Москве Василий выходил на площадь, уговаривал народ оставаться в верности Годуновым, уверял, что царевича нет на свете и человек, назвавшийся его именем, есть Гришка Отрепьев. Но когда после того воззвание, прочитанное Пушкиным с Лобного места, взволновало народ до того, что можно было ясно видеть непрочность Годуновых, Шуйский, призванный решить вопрос о подлинности Дмитрия, решил его в пользу претендента и окончательно погубил несчастное семейство Годуновых.
Князь Василий Шуйский. Рисунок С. Соломко из книги «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»
Рисунок С. Соломко из книги «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»
Само собой разумеется, что если кто из бояр был вполне уверен, что названый Дмитрий не действительный сын царя Ивана, то, конечно, Василий Шуйский, видевший собственными глазами труп убитого царевича. С Шуйским были в приязни московские торговые люди: это была старая фамильная приязнь; и в то время, когда Шуйские хотели развести Федора с женой, они опирались на торговых людей. Торговые люди были вхожи в дом Василия, и вот одному из них, Федору Коневу, с товарищами Шуйский сообщает, что царь вовсе не Дмитрий, вызывает опасение, что этот царь изменяет православию, что у него с Сигизмундом и польскими панами поставлен уговор разорить церкви и построить вместо них костелы, указывает на то, что некрещеные поляки и немцы входят в церковь, что при дворе соблюдаются иноземные обычаи, что настанет великая беда старому благочестию. Торговые люди начали болтать о том, что слышали от большого боярина, попались и выдали Шуйского. Не царь, а народный суд всех сословий приговорил Василия к смерти. С терпением и мужеством Василий пошел на казнь и, не ожидая спасения, бестрепетно сказал народу: «Умираю за веру и правду!» Палач хотел с него снять кафтан и рубаху с воротом, унизанным жемчужинами. Князь, потомок Владимира Святого, с гордостью и достоинством воспротивился, говоря: «Я в ней отдам Богу душу». Великодушие названого Дмитрия спасает его от смерти. Он отправлен в Вятку, но только что успел прибыть в этот город, как царский гонец привозит ему известие о возвращении ему боярского сана и всех прежних вотчин. Шуйский притворяется верным слугой Дмитрия, склоняется перед ним так же, как склонялся перед Годуновым, и кто знает, как долго оставался бы он в этом положении, если бы сам Дмитрий своей крайней неосторожностью не подал ему повода составить заговор. Не обладая способностью давать почин важному делу, Шуйский составил заговор потому, что уже чересчур было легко его составить. Приезд поляков, наглое поведение пришельцев и чересчур явное нарушение обычного хода жизни в Москве, соблазнившее строго благочестивых людей, естественно, образовали кружок недовольных. Старым боярам не нравилось стремление царя к нововведениям и к иноземным обычаям, при котором им, детям старой Руси, не представлялось играть первой роли. Торговые, зажиточные люди свыклись со своим образом жизни; их беспокоило то, что делалось перед их глазами и грозило нарушить вековой застой; притом же в их домах поставили «нечестивую Литву», которая нахально садилась им на шею. Наконец, можно было найти недовольных и среди служилых, которых пугала предпринимаемая война с турками и татарами. Шуйскому легко было собрать их к себе, когда над его действиями не только не было надзора, но даже запрещалось иметь его. Голос Шуйского не мог остаться без внимания, когда он говорил собранным у него гостям то, что у них самих шевелилось на душе. Знатность его рода как старейшей отрасли Святого Александра Невского содействовала уважению к его речам, также как и достоинство боярина, старого по летам и по службе. При всем том, однако, он нашел очень мало соумышленников; видимо, находились среди них и такие, которые тогда же думали предать его с заговорщиками. Из-за недостатка соучастников Шуйский выпустил из тюрем преступников: подобные товарищи, естественно, готовы были исполнять всякое дело. Малейшее внимание царя к тому, что делалось вокруг него, уничтожило бы все замыслы Шуйского. Разделавшись с Дмитрием, Шуйский бросился усмирять народ, возмущенный им же против поляков во имя царя, но москвичи успели уже перебить до четырехсот человек пришельцев, сопровождая убийства самыми неистовыми варварствами, нападали на сонных и безоружных и не только убивали, но мучили: отсекали руки и ноги, выкалывали глаза, обрезали уши и носы, ругались над женщинами, обнажали их, гоняли по городу в таком виде и били. С большим трудом Шуйский и бояре остановили кровопролитие и всякие неистовства. Народ в тот день до того перепился, что не мог долго дать себе отчета в происходившем. Волей-неволей народ стал участником убийства названого Дмитрия. Возвратить потерянного уже нельзя было. Народ молчал в каком-то оцепенении. Через три дня бояре согласились выбрать Шуйского в цари с тем, что он будет править не иначе, как с согласия бояр. Созвали народ на площадь звоном колокола. Приверженцы Шуйского немедленно «выкрикнули» его царем. Некоторые заявили, что следует разослать во все московские города грамоты, чтобы съехались выборные люди для избрания царя; но бояре решили, что этого не нужно, и сейчас же повели Василия в церковь, где он дал присягу управлять согласно боярским приговорам, никого не казнить без воли бояр, не отнимать у родственников осужденных служилых людей вотчин, а у гостей и торговых людей – лавок и домов, и не слушать ложных доносов. После произнесения Шуйским этой присяги бояре сами присягнули ему в верности.
К.Б. Вениг. Последние минуты Дмитрия Самозванца
H. Некрасов. Свержение Самозванца
Немедленно разослана была по всем городам грамота, извещавшая, будто по приговору всех людей Московского государства, и духовных и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский, по степени прародителей происходящий от Святого Александра Невского и суздальских князей. О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, такой-сякой сын Гришка Отрепьев, прельстив московских людей, хотел в соумышлении с папой, Польшей и Литвой попрать православную веру, ввести латинскую и лютерскую и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном поневоле, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключение вдовствующая царица объявляла, что она вместе с другими била Василию челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Дмитрия, показывает ее просьба к польскому королю, написанная после низложения Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил как следует.
Соборы Московского Кремля
Н.П. Ломтев. Сцена из Смутного времени. (Спасение Марины Мнишек во время восстания против поляков 17 мая 1606 года в Москве)
Соколиная башня в селе Коломенском близ Москвы
Воспитанный при дворе Грозного, сам будучи человеком лживым и хитрым, Борис был всегда подозрителен, недоверчив и окружал себя шпионами, но в первые годы его царствования ему не представлялось необходимости преследовать своих врагов, несмотря на то что у него их было много. Пока Борису ничего не угрожало, он казался щедрым, добрым, снисходительным. Вдруг в конце 1600 года стал в народе ходить слух, что царевич Дмитрий не убит, а спасен друзьями и где-то проживает до сих пор. Этот слух доходил тогда до служившего в войске Годунова француза Маржерета и, следовательно, должен был дойти до Бориса. С того времени нрав Бориса изменяется, исчезает мягкосердечие. У него была одна цель – утвердить себя и свой род на престоле. Для этой цели он стал некогда жестоким гонителем Шуйских и всех своих врагов, истребителем Углича; для этой цели он сделался добродушным и милосердым, для той же цели ему опять приходилось сделаться мрачным и свирепым, потому что кроткие средства, по-видимому, не удавались. Из слуха о Дмитрии он понял, что у него есть опасные враги, а у этих врагов может быть страшное орудие. Надо было во что бы то ни стало найти это орудие, истребить своих врагов, иначе пришлось бы потерять плоды трудов всей жизни. Положение Годунова было таково, что он не посмел разглашать, чего ищет, что преследует, какого рода измены страшится. Заикнуться о Дмитрии – значило вызывать на свет ужасный призрак. Притом Борис не мог быть вполне уверен, что Дмитрия точно нет на свете. Оставалось хватать всех, кого можно было подозревать в нерасположении к воцарившемуся государю, пытать, мучить, чтобы случайно напасть на след желаемой тайны. Так и поступал Борис.
Он напал на Богдана Вельского: этот человек был ближе всех к Дмитрию. Сосланный при воцарении Федора, он через несколько лет был возвращен и вел себя очень сдержанно. Борис всегда считал его для себя опасным, а потому удалил из Москвы, поручив ему строить в украинских степях город Царев-Борисов. Вельский зажил там богато и содержал за свой счет ратных людей. Когда разнесся слух о Дмитрии, Борис придрался к Вельскому за то, что последний, как доносили царю, произнес под веселый час такие неосторожные слова: «Царь Борис в Москве царь, а я в Цареве-Борисове!» Вельского привезли в Москву, а потом сослали куда-то в Низовскую землю. Говорят даже, что Борис приказал выщипать его черную густую бороду, которой тот щеголял. С ним вместе ссылка постигла и других лиц.
След Дмитрия не был отыскан. Борис принялся за бояр Романовых. Этот род был самый близкий к прежней династии, они были двоюродными братьями покойного царя Федора. Романовы не были расположены к Борису. Борис мог подозревать Романовых, когда ему приходилось отыскивать тайных врагов. По известиям летописей, Борис придрался к Романовым по поводу доноса одного из их холопов, будто они посредством кореньев хотят извести царя и добыть «ведовством» (колдовством) царство. Четырех братьев Романовых – Александра, Василия, Ивана и Михаила – разослали по отдаленным местам в тяжелое заключение, а пятого, Федора, который, как кажется, был умнее всех их, насильно постригли под именем Филарета в монастыре Антония Сийского. Затем сослали их свойственников и приятелей – Черкасского, Сицкого, Репниных, Карповых, Шестуновых, Пушкиных и др. Ссылка постигла даже дьяка Василия Щелкалова, несмотря на прежнюю к нему милость и дружбу Бориса с его братом Андреем. Поместья и вотчины сосланных отбирались в казну, имущество продавалось, доносчики получали награды. Шпионство развилось до крайних пределов. По московским улицам, как говорят современники, «то и дело сновали мерзавцы да подслушивали», и чуть только кто заведет речь о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают – и в пытку… Где только люди соберутся, там являются соглядатаи и доносчики. Все пустились на доносы, потому что это было выгодно. Доносили друг на друга попы, дьяконы, чернецы, черницы, жены на мужей, отцы на детей; бояре и боярыни доносили одни на других: первые царю, вторые – царице. У холопов вошло в обычай составлять на господ доносы, и чуть извет казался правдоподобным, господ поражала опала, а холопам давали свободу, записывали в число служилых, наделяли поместьями. Случалось и наоборот, что холопы стояли за своих опальных господ и хотели оправдать их. Таких холопов предавали пыткам, и если они не выдерживали горячих угольев и кнута и путались в показаниях, то им резали языки. Вообще достаточно было одного обвинения в недоброжелательстве государю: подозреваемых тотчас подвергали пыткам, и если они под пыткой оказывались сколько-нибудь виновны, их заключали в темницы или отправляли в ссылку. Обычно обвиняли опальных в ведовстве. Борис упорно скрывал то, что он действительно искал, но высказывал другого рода страх, чтобы его и его семью не испортили чарами, наговорами, зельями. Донесли Борису, что уже в Польше поговаривают, будто законный наследник прежних государей московских жив. Борис, не упоминая имени Дмитрия, приказал поставить на западной границе караулы, всех задерживать и доносить ему. Так прошло несколько месяцев. Трудно было переезжать из города в город. Все знали, что ищут каких-то важных преступников, но никому не объявляли, кого ищут. По всему Московскому государству было схвачено и перемучено множество невинных людей, а того, кого нужно было Борису, не находили.
Царевна Ксения Борисовна и царица-инокиня Марфа. Рисунок С. Соломко из книги «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»
Марина Мнишек
В те тяжелые времена доносов и пыток постиг Русь страшный голод, довершивший подготовку к потрясениям. Уже в 1601 году из-за дождливого лета и ранних морозов случился во многих местах неурожай; зимой в Москве цена хлеба дошла до пяти рублей за четверть. В следующем году (1602) был такой же неурожай. Тогда постигла Московское государство такая беда, какой, как говорят современники, не помнили ни деды, ни прадеды. В одной Москве, куда стекались со всех сторон толпы нищих, погибали десятки тысяч, если верить русским и иностранным известиям. Бедняки ели собак, кошек, мышей, сено, солому и даже в припадке бешенства с голоду пожирали друг друга. Вареное человечье мясо продавалось на московских рынках. Дорожному человеку опасно было заехать на постоялый двор, потому что его могли зарезать и съесть. Тем не менее современники свидетельствуют, что в то время не было на Руси недостатка в хлебе. В окрестностях Курска и на Северской земле урожаи были очень хороши. Около Владимира-на-Клязьме и в разных уездах украинных городов стояли полные одонья необмолоченного хлеба прошлых годов. Но мало было людей, готовых жертвовать личными выгодами для общего дела. Напротив, большая часть старалась извлечь себе корысть из общего бедствия. Нередко зажиточный крестьянин выгонял на голодную смерть свою челядь и близких сродников, а запасы продавал по дорогой цене. Иной мужик-скряга боялся везти свое зерно на продажу, чтобы у него по дороге не отняли голодные, и зарывал его в землю, где оно сгнивало без пользы. Другому удавалось продать хлеб и взять огромные барыши, но потом он трясся над деньгами от страха, чтобы на него не напали. Московские торговцы заранее накупили множество хлеба и держали под замками в своих лабазах, рассчитывая продать тогда, когда цены подымутся донельзя. Борис преследовал их, велел отбирать у них хлеб и отдавать беднякам, а хозяевам оплачивал по умеренным ценам. Но посланные сталкивались с продавцами хлеба, иногда не показывали найденного у них хлеба, а иногда продавцы хлеба отдавали на продажу по установленной тогда цене гнилой хлеб. Борис приказал отворить все свои житницы, продавать хлеб дешевле принятой цены, а бедным раздавать деньги. Но в Московской земле, по замечанию современников, должностные лица оказались плутами: они раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем, которые делились с ними барышами. Их сообщники, одевшись в лохмотья, приходили вместе с нищими и получали деньги, а настоящих нищих разгоняли палками. Раздача милостыни продолжалась с месяц, потом Борис рассудил, что она только обогащает плутов и скапливает голодный народ в столице; может объявиться зараза; притом подозрительный царь боялся большого стечения народа, чтобы не произошло бунта. Он запретил раздачу. Это было в такое время, когда весть о щедрости царя распространилась по отдаленным областям и в Москву шли отовсюду толпы народа за пропитанием: вдруг разразилось над ними прекращение раздачи милостыни. Многие погибали на дороге; голодные собратья терзали их трупы наравне с волками и собаками. Борис, однако, не оставил народа совершенно без внимания, но вместо раздачи милостыни в Москве посылал чиновников забирать необмолоченный и обмолоченный хлеб у землевладельцев в разных местах, покупать его по установленной правительством цене и доставлять в места, где был голод. Однако посланные от царя лица брали с землевладельцев взятки и не показывали, что у них сохраняется хлеб. Притом же и доставка хлеба с одного места в другое была затруднительна, потому что голод разогнал ямщиков, трудно было доставать подводы и лошадей.
Лжедмитрий I
Современники говорят, будто в те ужасные годы в одной Москве погибло до 127 000 человек, погребенных в убогих домах (так назывались общие кладбища для бедных, а также для найденных убитыми), не считая тех, которые были погребены у церквей.
Борис, однако, не хотел, чтобы весть о таком печальном положении народа в его государстве дошла за границу, и предполагал, что это можно утаить. Поэтому, когда по окончании голода в Москву приехали иноземные послы, Борис приказал всем наряжаться в цветные платья, а беднякам запрещено было в своих лохмотьях появляться на дороге. Смертная казнь обещана была тому, кто станет рассказывать приезжим иноземцам о бедствиях Московского государства. Между тем в то время сам царь Борис перенес семейную невзгоду. После удаления Густава, принца шведского, в Углич Борис стал подыскивать другого жениха для своей дочери среди иностранных принцев, и вот брат датского короля Иоанн в августе 1602 года очень понравился Борису, но в октябре того же года умер от горячки. Годунов и вся его семья тосковали по нему, а в народе стал носиться слух, будто сам Борис отравил его из боязни, чтобы москвичи, полюбив зятя Бориса, не избрали его царем вместо сына Бориса. Русские готовы были тогда всякое злодеяние приписать своему царю; ненависть к нему возрастала. Никто не любил его, дорожили им только те, кого соединяла с ним личная выгода, а главное – шпионы, которым он платил за их гнусное ремесло. Возникло в народе убеждение, что царствование Бориса не благословляется небом, потому что, достигнутое беззаконием, оно поддерживается неправдой; толковали, что если утвердится на престоле род Годунова, то не принесет Русской земле счастья. Люди родовитые оскорблялись и тем, что на царском престоле сел потомок татарина. Становилось желательным, чтобы нашелся кто-то, имевший в глазах народа гораздо больше прав перед Борисом. Таким лицом был именно Дмитрий, сын прежнего государя. Мысль о том, что он жив и вскоре явится отнимать у Бориса похищенный престол, все более и более распространялась в народе, а суровые преследования со стороны Годунова скорее поддерживали ее, чем искореняли. И вот в начале 1604 года перехвачено было письмо, написанное одним иноземцем из Нарвы; в этом письме говорилось, что объявился сын московского царя Ивана Васильевича Дмитрий, находится будто бы у казаков, а Московскую землю вскоре постигнет большое потрясение. Вслед за тем пришли в Москву люди, взятые в плен казаками под Саратовом и отпущенные на родину: они принесли весть, что казаки грозят вскоре прийти в Москву с царем Дмитрием Ивановичем.
Дом, в котором жил царевич Дмитрий в Угличе
Присяга русских в XVII столетии. С современной гравюры
Народ ожидал чего-то необычайного. Давно передавались рассказы о разных видениях и предзнаменованиях. Ужасные бури вырывали с корнем деревья, опрокидывали колокольни. Там не ловилась рыба, тут не видно было птиц. Женщины и домашние животные производили на свет уродов. В Москву забегали волки и лисицы; на небе стали видеть по два солнца и по два месяца. Наконец летом 1604 года появилась комета, и астролог немец предостерегал Бориса, что ему грозят важные перемены.
В.Г. Шварц. Русский посол при дворе римского императора
Царь Борис, услышав, что в Польше объявился какой-то человек, выдававший себя за Дмитрия, начал с того, что велел учредить на литовской границе крепкие заставы и не пропускать никого ни из Литвы, ни в Литву под предлогом, будто в Литве свирепствует какое-то поветрие, а внутри государства умножил шпионов, которые всюду прислушивались: не говорит ли кто о Дмитрии, не ругает ли кто Бориса. Обвиненным резали языки, сажали их на колья, жгли на медленном огне и даже по одному подозрению засылали в Сибирь, где предавали тюремному заключению. Борис сделался недоступным, не показывался народу. Просителей отгоняли пинками и толчками от дворцового крыльца, а начальные люди, зная, что до царя не дойдут жалобы на них, безнаказанно совершали разные насилия, чем увеличивали вражду народа к существующему правительству. Между тем в Москву давали знать, что в польской Украине под знаменем Дмитрия собирается ополчение и со дня на день нужно ждать вторжения в московские пределы; в июле посланник немецкого императора сообщил от имени своего государя по соседской дружбе, что в Польше появился Дмитрий и надо принимать против него меры. Борис отвечал цесарскому посланнику, что Дмитрия нет на свете, а в Польше объявился какой-то обманщик, которого царь не боится. Однако, посоветовавшись с патриархом, Годунов находил, что нужно же объяснить и самим себе, и народу, кто такой этот обманщик. Стали думать и придумали, что это, должно быть, бежавший в 1602 году Григорий Отрепьев. Он был родом из галицких детей боярских, постригся в Чудовом монастыре и был крестовым дьяком (секретарем) у патриарха Иова. Начали распространять исподволь в народе слух, что объявившийся в Польше обманщик – именно этот беглый Григорий Отрепьев, но не решались еще огласить о том во всеуслышание. В сентябре послали в Польшу гонцом Смирного-Отрепьева, дядю Григория, и распространили в народе слух, что его посылают для обличения племянника, но на самом деле отправили его с грамотой о пограничных недоразумениях и не дали никакого поручения о том человеке, который назывался Дмитрием. Царь Борис, вероятно, рассчитывал, что лучше помедлить с решительным заявлением об Отрепьеве, так как сам не был уверен в его тождестве с названым Дмитрием. Он приказал привезти мать Дмитрия и тайно допрашивал ее: жив ли ее сын или нет? «Я не знаю», – ответила Марфа. Тогда царица, жена Бориса, пришла в такую ярость, что швырнула Марфе горящую свечу в лицо. «Мне говорили, – сказала Марфа, – что сына моего тайно увезли без моего ведома, а те, что так говорили, уже умерли». Рассерженный Борис велел ее отвезти в заключение и содержать с большой строгостью. Между тем 16 октября названый Дмитрий с толпой поляков и казаков вступил в Московское государство. Города сдавались ему один за другим. Служилые люди переходили к нему на службу. В ноябре он осадил Новгород-Северский, но был отбит посланным туда воеводой Басмановым. После того царь выслал против Дмитрия войско под главным начальством Федора Мстиславского. Это войско 20 декабря потерпело неудачу. Дальше скрываться перед народом было невозможно. Послушный Борису патриарх Иов взялся объяснить Русской земле запутанное дело. Первопрестольник русской церкви, обходя благоразумным молчанием вопрос о том, как не стало Дмитрия, уверял в своей грамоте народ, что называющий себя царевичем Дмитрием есть беглый монах Гришка Отрепьев; патриарх ссылался на свидетельство трех бродяг: чернеца Пимена, какого-то Венедикта и ярославского посадского человека иконника Степана; первый провожал Отрепьева вместе с товарищами Варлаамом и Мисаилом в Литву, а последние два видели его в Киеве и знают, что Гришка потом назвался царевичем. Патриарх извещал, что он с освященным собором проклял Гришку и всех его соучастников, повелевал во всех церквах предавать анафеме его и с ним всех тех, кто станет называть его Дмитрием. Вслед за тем в феврале 1605 года из Москвы отправили в Польшу гонца Постника Огарева уже с явным требованием выдачи «вора». Борис заявлял королю и всей Польше, что называющий себя Дмитрием есть ни кто другой, как Гришка Отрепьев. На сейме в то время Ян Замойский сильно осуждал Мнишека и Вишневецких, подавших помощь претенденту; говорил, что со стороны короля поддерживать его и из-за него нарушать мир с московским государем бесчестно; доказывал, что называвшему себя Дмитрием верить не следует. «Этот Димитрий называет себя сыном царя Ивана, – говорил Замойский. – Об этом сыне у нас был слух, что его умертвили. Он же говорит, что на место его умертвили другого! Помилуйте, что это за Плавтова или Теренцева комедия? Возможное ли дело: приказали убить кого-то, да притом наследника, и не посмотрели, кого убили! Так можно зарезать только козла или барана! Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол, то и кроме Димитрия есть законные наследники – дом Владимирских князей: право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей». Большинство панов также не расположено было поддерживать Дмитрия, но поскольку его уже не оказалось в Польше, то царский гонец получил такой ответ, что этого человека легче достать в Московском государстве, чем в польских владениях.
Ни патриаршая грамота, ни обряд проклятия не расположили к Борису народные сердца. Московские люди считали все уверения патриарха ложью. «Борис, – говорили они, – поневоле должен делать так, как делает, а то ведь ему придется не только от царства отступиться, но и жизнь потерять». Насчет проклятия говорили: «Пусть, пусть проклинают Гришку! От этого царевичу ничего не станет. Царевич – Димитрий, а не Гришка». Шпионы Бориса продолжали подслушивать речи, и не проходило дня, чтобы в Москве не мучили людей кнутом, железом и огнем.
21 января 1605 года войско Годунова под начальством Мстиславского и Шуйского одержало верх над Дмитрием, и Дмитрий ушел в Путивль. Борис был очень доволен, щедро наградил своих воевод, особенно обласкал Басманова за его упорную защиту Новгорода-Северского; но народ, услышав о неудаче названого Дмитрия, пришел в уныние. Борис вскоре понял, что сила его врага заключается не в той военной силе, с которой этот враг вступил в государство, а в готовности и народа, и войска в Московском государстве перейти при первом же случае на его сторону, так как все легко поддавались уверенности, что он настоящий царевич. Когда Дмитрий оставался в Путивле, украинные города Московского государства один за другим признавали его, а в Путивль со всех сторон приходили русские бить челом своему прирожденному государю. Имя Гришки Отрепьева вызывало один смех. Сам Борис не мог поручиться, что его враг – не царевич Дмитрий. Годунов, обласкав Басманова, уверял его, что названый Дмитрий является обманщиком, и сулил ему золотые горы, если он достанет злодея. Говорят, царь даже обещал выдать за Басманова свою дочь и в приданое за ней дать целые области. Басманов сказал об этом родственнику Бориса, Семену Никитичу Годунову, а тот из зависти, что Борис слишком возвышает Басманова, выразил ему сомнение: не в самом ли деле этот Дмитрий настоящий царевич? Слова эти запали в сердце Басманова; несмотря на все уверения Бориса, он стал склоняться к мысли, что соперник Годунова действительно Дмитрий и рано или поздно возьмет верх над Борисом. Басманов не верил ни заявлениям, ни обещаниям Бориса: он знал, что этот лживый человек способен давать обещания, а потом не сдержит их.
Царь был в страшном волнении, обращался к ворожеям, предсказателям, выслушивал от них двусмысленные прорицания, запирался и целыми днями сидел один, а сына посылал молиться по церквам. Казни и пытки не прекращались. Борис уже в близких себе людях подозревал измену и не надеялся сладить с соперником военными силами; он решил попытаться тайным убийством избавиться от своего злодея. Попытка эта не удалась. Монахи, которых в марте подговорил Борис ехать в Путивль отравить названого Дмитрия, попались с ядом в руки последнего. Неизвестно, дошла ли до Бориса об этом весть, но вскоре ему пришел конец.
13 апреля, в неделю мироносиц, царь встал здоровым и казался веселее обычного. После обедни приготовлен был праздничный стол в Золотой палате. Борис ел с большим аппетитом и переполнил себе желудок. После обеда он пошел на вышку, с которой часто обозревал всю Москву. Но вскоре он поспешно сошел оттуда, говорил, что чувствует колотье и дурноту. Побежали за доктором; пока успел прийти врач, царю стало хуже. У него выступила кровь из ушей и носа. Царь упал без чувств. Прибежал патриарх, за ним явилось духовенство. Кое-как успели причастить царя Св. Тайн, а потом совершили наскоро над полумертвым пострижение в схиму и нарекли Боголепом. Около трех часов пополудни Борис скончался. Целый день боялись объявить народу о смерти царя, огласили только на другой день и начали посылать народ в Кремль целовать крест на верность царице Марии и ее сыну Федору. Патриарх объявил, что Борис завещал им свой престол. Тотчас пошли рассказы, что Борис на вышке сам себя отравил ядом в припадке отчаяния. Этот слух распустили немцы, доктора Бориса. На следующий день останки его были погребены в Архангельском соборе среди прочих властителей Московского государства.
Новый царь был шестнадцатилетний юноша, полный телом, бел, румян, черноглаз и, как говорят современники, «изучен всякого философского естествословия». Ему присягнули в Москве без ропота, но тут же говорили: «Не долго царствовать Борисовым детям! Вот Димитрий Иванович придет в Москву».
17 апреля отправился к войску назначенный его главным предводителем Петр Федорович Басманов с князем Катыревым-Ростовским. Мстиславского и Шуйского отозвали в Москву. Басманову оказывали больше всех доверия. Но этот человек уже давно стал колебаться. Надо было приводить к присяге войско. Для этого приехал новгородский митрополит Исидор с духовенством. Собрали войско произносить присягу сыну Бориса. Вдруг поднялся шум. Рязанские дворяне Ляпуновы первые закричали, что «знают одного законного государя Димитрия Ивановича». С ними заодно были все рязанцы; к ним примкнули служилые люди всех украинных городов; наконец имя Дмитрия Ивановича заглушило имя Федора, и митрополит Исидор со своим духовенством обратился вспять. Басманов написал повинное письмо Дмитрию и послал с гонцом, а сам собрал воевод – братьев Голицыных, Василия и Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова – и объявил им, что признает Дмитрия настоящим государем: «Все государство Русское приложится к Димитрию, – говорил он, – и мы все-таки поневоле покоримся ему, и тогда будем у него последними; так лучше покоримся ему, пока время, по доброй воле и будем у него в чести». С ним согласились и Голицыны, и Салтыков; но зазорно показалось некоторым из предводителей самим объявить об этом войску. Василий Голицын сказал Басманову: «Я присягал Борисову сыну; совесть зазрит переходить по доброй воле к Димитрию Ивановичу; а вы меня свяжите и ведите, как будто неволею». 7 мая Басманов собрал вторично войско и объявил, что признает Дмитрия законным наследником государей Русской земли. Священники начали приводить к присяге на имя Дмитрия Ивановича. Некоторые стали упрямиться, и их прогнали. Товарищ Басманова Катырев-Ростовский и князь Андрей Телятевский убежали в Москву.
К.В. Лебедев. Отказ Бориса Годунова от престола
В Москву пришло известие о переходе войска на сторону Дмитрия. Несколько дней в столице господствовала глубокая тишина. На иностранцев она навела страх: они поняли, что это затишье подобно тому, какое бывает в природе перед сильной бурей. Годуновы сидели в кремлевских палатах и по изветам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей грамот Дмитрия.
30 мая в Москве начались шум, суетня. Народ валил на улицы. Два каких-то молодца говорили, что видели за Серпуховскими воротами большую пыль. Разнеслась весть, что идет Дмитрий. Москвичи спешили покупать хлеб-соль, чтобы встречать законного государя. Годуновы пришли в ужас, выслали из Кремля бояр узнать: что это значит? Народ молчал. Но Дмитрия не было. Обман открылся. Народ стал расходиться. Многие еще стояли толпой на Красной площади; какой-то боярин начал им говорить нравоучение и хвалить царя Федора. Народ молчал.
На другой день, 31 мая, по приказанию Годуновых стали возводить на кремлевские стены пушки; народ глядел на это с кривляньями и насмешками.
1 июня дворяне Плещеев и Пушкин привезли грамоту Дмитрия и остановились в Красном селе. Народ, узнав об этом, подхватил гонцов и повез на Красную площадь. Ударили в колокола. Посланцев поставили на Лобном месте. На Красной площади образовалась такая давка, что невозможно было протиснуться. Вышли было из Кремля думные люди и закричали: «Что это за сборище, берите воровских посланцев, ведите в Кремль!»
Народ отвечал неистовыми криками и приказывал читать грамоту. Дмитрий извещал о своем спасении, прощал московским людям, что они по незнанию присягали Годуновым, припоминал всякие утеснения и насилия, причиненные народу Борисом Годуновым, обещал всем льготы и милости и приглашал прислать к нему посольство с челобитьем.
В толпе поднялось сильное смятение. Одни кричали: «Буди здрав царь Димитрий Иванович!» Другие говорили: «Да точно ли это Димитрий Иванович? Может быть, это не настоящий». Наконец раздались голоса: «Шуйского! Шуйского! Он разыскивал, когда царевича не стало. Пусть скажет по правде: точно ли похоронили царевича в Угличе?» Шуйского взвели на Лобное место. Наступила тишина. Шуйский громко сказал: «Борис послал убить Димитрия царевича; но царевича спасли; вместо него погребен попов сын».
Тогда вся толпа неистово заревела: «Долой Годуновых! Всех их искоренить! Нечего жалеть их, когда Борис не жалел законного наследника! Господь нам свет показал. Мы доселева во тьме сидели. Буди здрав, Димитрий Иванович!»
Толпа без удержу бросилась в Кремль. Защищать Годуновых было некому. Стрельцы, стоявшие на карауле во дворце, отступились от них. Федор Борисович бежал в Грановитую палату и сел на престол. Мать и дочь встали подле него с образами. Но ворвался народ; царя стащили с престола. Мать униженно плакала и просила не предавать смерти ее детей. Годуновых отвезли на водовозных клячах в прежний дом Бориса и приставили к ним стражу. Тогда схватили и посадили в тюрьму всех родственников и сторонников Годуновых, опустошили их дома, ограбили также немецких докторов и перепились до бесчувствия, так что многие тут же лишились жизни.
От Москвы поехали к Дмитрию выбранные люди: князь Иван Михайлович Воротынский и Андрей Телятевский с повинной грамотой, в которой приглашали законного царя на престол. Грамота была написана от лица всех сословий, а впереди всех поставлено было имя патриарха Иова. Невозможно решить: в какой степени участвовал в этом Иов; но после свержения Годуновых патриарх не удалялся и священнодействовал.
10 июня приехали в Москву князь Василий Голицын и князь Рубец-Масальский с приказанием устранить Годуновых и свести с престола патриарха Иова. Патриарха на простой тележке отвезли в Старицкий Богородицкий монастырь. Всех свойственников Годуновых отправили в ссылку по разным городам. Говорят, что таким образом сослали тогда 24 семейства. Наконец Голицын и Рубец-Масальский поручили дворянам Михаилу Молчанову и Шеферединову разделаться с семейством Бориса. Посланные взяли с собой троих дюжих стрельцов, вошли в дом и развели Годуновых по разным комнатам. Вдову Бориса удавили веревкой. Молодой Годунов, сильный от природы, стал было защищаться, но его ударили дубиной, а потом удавили. Царевна Ксения лишилась чувств; ее оставили живой на безотрадную жизнь.
Голицын и Масальский объявили народу, что вдова и сын Бориса отравили себя ядом. Тела их были выставлены напоказ. В заключение вынули из Архангельского собора гроб Бориса и зарыли в убогом Варсонофьевском монастыре (между Сретенкой и Рождественкой). Там же рядом с ним похоронили жену и сына без всяких обрядов, как самоубийц. Мы не знаем, действительно ли названый Дмитрий приказал совершить это убийство или же бояре без его приказания постарались услужить новому царю и сказали ему, что Годуновы сами лишили себя жизни, а он, хотя и понимал, как все случилось, но показывал вид, что верит их рассказам о самоубийстве Годуновых.
Василий Шуйский
Печальные обстоятельства предшествовавшей истории наложили на великорусское общество характер азиатского застоя, тупой приверженности к старому обычаю, страх всякой новизны, равнодушие к улучшению своего духовного и материального быта и отвращение ко всему иноземному. Но было бы клеветой на русский народ утверждать, что в нем совершенно исчезла та духовная подвижность, которая составляет отличительное качество европейских племен, и думать, что русские в описываемое нами время неспособны были вовсе откликнуться на голос, вызывающий их на путь новой жизни. Умные люди чувствовали тяжесть невежества; лица, строго хранившие благочестивую старину, сознавали, однако, потребность просвещения, по их понятиям, главным образом религиозно-нравственного; думали о заведении школ и распространении грамотности. Люди с более смелым умом обращались прямо к иноземному, чувствуя, что собственные средства для расширения круга сведений слишком скудны. Несмотря на гнет того благочестия, которое отплевывалось от всего иноземного, как от дьявола, в Москве, по известию иностранцев, находились лица, у которых стремление к познаниям и просвещению было так велико, что они выучивали иностранные языки с большими затруднениями, происходившими как от недостатка руководств и руководителей, так и от преследования со стороны тех, которые готовы были заподозрить в этом ересь и измену отечеству. Так, Федор Никитич Романов, нареченный по пострижении Филаретом, учился латыни; поляки в Москве видели людей, выучившихся тайком иностранным языкам и с жадностью хватавшихся за чтение. Афанасий Власов, рассмешивший поляков своими простодушными выходками, в то же время удивил их чистым латинским произношением, показывавшим, что язык латинский был ему знаком. О многих жертвах Ивана Курбский говорит как о людях ученых и начитанных для своего времени, и сам Курбский своим собственным примером доказывает, что московские люди XVI века не оставались совершенно неспособными понять пользу просвещения и необходимость сближения с иноземцами. У нас думали, что названый царь Дмитрий вооружил против себя русский народ своей привязанностью к иноземцам, пренебрежением к русским обычаям и равнодушием к требованиям тогдашнего благочестия. Но вглядываясь ближе в смысл событий, увидим не это: поведение Дмитрия действительно не могло нравиться строгим блюстителям неподвижности, но никак не большинству, не массе народа; так же, как и впоследствии великий преобразователь Руси, хотя и встретил против себя сильное, упорное и продолжительное противодействие, но никак не от всех, а напротив, нашел немало искренних сторонников и ревнителей своих преобразовательных планов: иначе бы, конечно, он и не успел. Гибель названого Дмитрия была делом не русского народа, а только заговорщиков, воспользовавшихся оплошностью жертвы; это доказывается тем, когда народ русский тотчас же обольстился вестью, что царь его, спасенный раз в детстве в Угличе, спасся в другой раз в Москве; народ русский почти весь последовал за тенью Дмитрия до тех пор, пока не убедился, что его обманывали и Дмитрия нет на свете. Сам способ убийства показывает, что народ был далек от того, чтобы погубить своего царя за его приемы, отличавшиеся от приемов прежних царей. Шуйский вооружил народ против поляков именем того же царя и таким обманом отвлек его внимание от Кремля. Количество соучастников Шуйского не могло быть велико; оттого-то Шуйский накануне убийства поспешил удалить из сотни караульных семьдесят человек: очевидно, он боялся не сладить с целой сотней. Таким образом, убийство Дмитрия было вовсе не народным делом.
Царь Василий Шуйский. Титулярник 1672 г.
Лжедмитрий I. Гравюра 1850 г.
Кто бы ни был этот названый Дмитрий и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он для русского общества был человеком, призывавшим его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев, и для выезжавших из него русских, объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести: все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им иную жизнь. Его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже подготовлялась именно этой свободой. Объявлена была война старой житейской обрядности. Царь собственным примером открыл эту борьбу, как поступил впоследствии и Петр, но названый Дмитрий поступал без того принуждения, с которым соединялись преобразовательные стремления последнего. Царь одевался в иноземное платье, царь танцевал, тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности; царь беспрестанно порицал русское невежество, восхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем: что бы впоследствии ни вышло из Дмитрия – все-таки он был человек нового, зачинающегося русского общества.
Марина Мнишек. Гравюра 1850 г.
Враг, погубивший его, Василий Шуйский, был совершенной противоположностью этому загадочному человеку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нем мы видим отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага и в то же время терпение и стойкость – качества, которыми русские приводили в изумление иноземцев; он гнул шею перед силой, покорно служил власти, пока она была могуча для него; прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедой, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был неспособен давать почин, избирать пути, вести других за собой. Ряд его поступков, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблять святыню для своих целей. Мелочной, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. Его хватило только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны. Знатность рода помогла ему овладеть престолом, главным образом оттого, что другие надеялись править его именем. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле, не исключая и Федора, слабоумие которого покрывал собой Борис. Сама наружность Василия была очень непривлекательна: это был худенький, приземистый, сгорбленный старичок, с больными подслеповатыми глазами, с длинным горбатым носом, большим ртом, морщинистым лицом, редкими бородкой и волосами.
Василию при вступлении на престол было уже за пятьдесят лет. Молодость свою он провел при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда его родственники играли важную роль в государстве, Василий оставался в тени. Опала, постигшая его родного брата Андрея, миновала Василия. Борис не боялся его, вероятно, считая его ничтожным по уму и притом всегдашним угодником силы; говорят, однако, Борис запрещал ему жениться, как и Мстиславскому. Василий все терпел и повиновался беспрекословно. Посланный на следствие по поводу убийства Дмитрия, Василий исполнил это следствие так, как нужно было Борису и как, вероятно, ожидал того Борис. Появился Дмитрий. Борис послал против него Шуйского, и Василий верно служил Борису. Бориса не стало. При первом народном восстании против Годуновых в Москве Василий выходил на площадь, уговаривал народ оставаться в верности Годуновым, уверял, что царевича нет на свете и человек, назвавшийся его именем, есть Гришка Отрепьев. Но когда после того воззвание, прочитанное Пушкиным с Лобного места, взволновало народ до того, что можно было ясно видеть непрочность Годуновых, Шуйский, призванный решить вопрос о подлинности Дмитрия, решил его в пользу претендента и окончательно погубил несчастное семейство Годуновых.
Князь Василий Шуйский. Рисунок С. Соломко из книги «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»
Рисунок С. Соломко из книги «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»
Само собой разумеется, что если кто из бояр был вполне уверен, что названый Дмитрий не действительный сын царя Ивана, то, конечно, Василий Шуйский, видевший собственными глазами труп убитого царевича. С Шуйским были в приязни московские торговые люди: это была старая фамильная приязнь; и в то время, когда Шуйские хотели развести Федора с женой, они опирались на торговых людей. Торговые люди были вхожи в дом Василия, и вот одному из них, Федору Коневу, с товарищами Шуйский сообщает, что царь вовсе не Дмитрий, вызывает опасение, что этот царь изменяет православию, что у него с Сигизмундом и польскими панами поставлен уговор разорить церкви и построить вместо них костелы, указывает на то, что некрещеные поляки и немцы входят в церковь, что при дворе соблюдаются иноземные обычаи, что настанет великая беда старому благочестию. Торговые люди начали болтать о том, что слышали от большого боярина, попались и выдали Шуйского. Не царь, а народный суд всех сословий приговорил Василия к смерти. С терпением и мужеством Василий пошел на казнь и, не ожидая спасения, бестрепетно сказал народу: «Умираю за веру и правду!» Палач хотел с него снять кафтан и рубаху с воротом, унизанным жемчужинами. Князь, потомок Владимира Святого, с гордостью и достоинством воспротивился, говоря: «Я в ней отдам Богу душу». Великодушие названого Дмитрия спасает его от смерти. Он отправлен в Вятку, но только что успел прибыть в этот город, как царский гонец привозит ему известие о возвращении ему боярского сана и всех прежних вотчин. Шуйский притворяется верным слугой Дмитрия, склоняется перед ним так же, как склонялся перед Годуновым, и кто знает, как долго оставался бы он в этом положении, если бы сам Дмитрий своей крайней неосторожностью не подал ему повода составить заговор. Не обладая способностью давать почин важному делу, Шуйский составил заговор потому, что уже чересчур было легко его составить. Приезд поляков, наглое поведение пришельцев и чересчур явное нарушение обычного хода жизни в Москве, соблазнившее строго благочестивых людей, естественно, образовали кружок недовольных. Старым боярам не нравилось стремление царя к нововведениям и к иноземным обычаям, при котором им, детям старой Руси, не представлялось играть первой роли. Торговые, зажиточные люди свыклись со своим образом жизни; их беспокоило то, что делалось перед их глазами и грозило нарушить вековой застой; притом же в их домах поставили «нечестивую Литву», которая нахально садилась им на шею. Наконец, можно было найти недовольных и среди служилых, которых пугала предпринимаемая война с турками и татарами. Шуйскому легко было собрать их к себе, когда над его действиями не только не было надзора, но даже запрещалось иметь его. Голос Шуйского не мог остаться без внимания, когда он говорил собранным у него гостям то, что у них самих шевелилось на душе. Знатность его рода как старейшей отрасли Святого Александра Невского содействовала уважению к его речам, также как и достоинство боярина, старого по летам и по службе. При всем том, однако, он нашел очень мало соумышленников; видимо, находились среди них и такие, которые тогда же думали предать его с заговорщиками. Из-за недостатка соучастников Шуйский выпустил из тюрем преступников: подобные товарищи, естественно, готовы были исполнять всякое дело. Малейшее внимание царя к тому, что делалось вокруг него, уничтожило бы все замыслы Шуйского. Разделавшись с Дмитрием, Шуйский бросился усмирять народ, возмущенный им же против поляков во имя царя, но москвичи успели уже перебить до четырехсот человек пришельцев, сопровождая убийства самыми неистовыми варварствами, нападали на сонных и безоружных и не только убивали, но мучили: отсекали руки и ноги, выкалывали глаза, обрезали уши и носы, ругались над женщинами, обнажали их, гоняли по городу в таком виде и били. С большим трудом Шуйский и бояре остановили кровопролитие и всякие неистовства. Народ в тот день до того перепился, что не мог долго дать себе отчета в происходившем. Волей-неволей народ стал участником убийства названого Дмитрия. Возвратить потерянного уже нельзя было. Народ молчал в каком-то оцепенении. Через три дня бояре согласились выбрать Шуйского в цари с тем, что он будет править не иначе, как с согласия бояр. Созвали народ на площадь звоном колокола. Приверженцы Шуйского немедленно «выкрикнули» его царем. Некоторые заявили, что следует разослать во все московские города грамоты, чтобы съехались выборные люди для избрания царя; но бояре решили, что этого не нужно, и сейчас же повели Василия в церковь, где он дал присягу управлять согласно боярским приговорам, никого не казнить без воли бояр, не отнимать у родственников осужденных служилых людей вотчин, а у гостей и торговых людей – лавок и домов, и не слушать ложных доносов. После произнесения Шуйским этой присяги бояре сами присягнули ему в верности.
К.Б. Вениг. Последние минуты Дмитрия Самозванца
H. Некрасов. Свержение Самозванца
Немедленно разослана была по всем городам грамота, извещавшая, будто по приговору всех людей Московского государства, и духовных и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский, по степени прародителей происходящий от Святого Александра Невского и суздальских князей. О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, такой-сякой сын Гришка Отрепьев, прельстив московских людей, хотел в соумышлении с папой, Польшей и Литвой попрать православную веру, ввести латинскую и лютерскую и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном поневоле, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключение вдовствующая царица объявляла, что она вместе с другими била Василию челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Дмитрия, показывает ее просьба к польскому королю, написанная после низложения Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил как следует.
Соборы Московского Кремля
Н.П. Ломтев. Сцена из Смутного времени. (Спасение Марины Мнишек во время восстания против поляков 17 мая 1606 года в Москве)
Соколиная башня в селе Коломенском близ Москвы