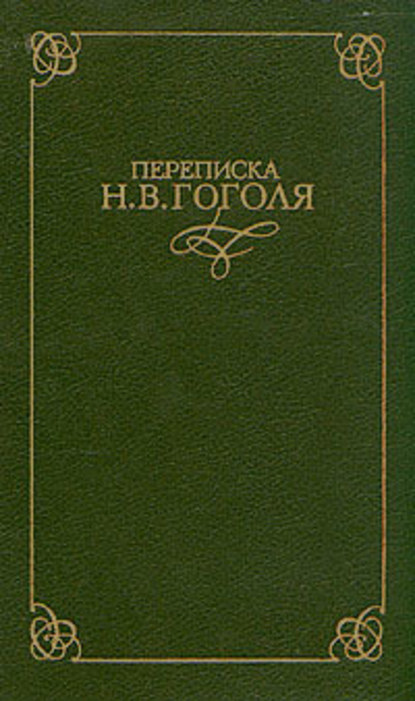По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гоголь – Жуковскому В. А., 28 февраля 1850
28 февраля 1850 г. Москва [[468 - Сочинения и письма, т. 6, с. 477–481 (с пропусками); Акад., XIV, № 148.]]
28 февраля, Москва.
Почувствовав облегченье от болезни, в которой пробыл недели полторы, принимаюсь отвечать. Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками в таком виде, чтобы они могли послужить в пользу твоему «Вечному жиду». Знаешь ли, какую тяжелую ты мне задал задачу? Что могу сказать я, чего бы ни сказали уже другие? Какие краски, какие черты представлю, когда все уже пересказано, перерисовано со всеми малейшими подробностями? Да и к чему эти бедные черты, когда всякое событие евангельское и без того уже обстанавливается в уме христианина такими окрестностями, которые гораздо ближе дают чувствовать минувшее время, чем все ныне видимые местности, обнаженные, мертвые? Что могут сказать, например, ныне места, по которым прошел скорбный путь Спасителя ко кресту, которые все теперь собраны под одну крышу храма, так что и св. гроб, и Голгофа, и место, где Спаситель показан был Пилатом народу, и жилище архиерея, к которому он был проводим, и место нахождения животворного креста – все очутилось вместе? Что могут все эти места, которые привыкли мы мерять расстояниями, произвести другого, как разве только сбить с толку любопытного наблюдателя, если только они уже не врезались заблаговременно и прежде в его сердце и в свете пламенеющей веры не предстоят ежеминутно перед мысленными его очами? Что может сказать поэту-живописцу нынешний вид всей Иудеи с ее однообразными горами, похожими на бесконечные серые волны взбугрившегося моря? Все это, верно, было живописно во времена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый еврей сидел под тенью им насажденного древа, но теперь, когда редко-редко где встретишь пять-шесть олив на всей покатости горы, цветом зелени своей так же сероватых и пыльных, как и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха да урывками клочки травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровного поля каменьев да через каких-нибудь пять-шесть часов пути попадется где-нибудь приклеившаяся к горе хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную нору, чем на жилище человека, как узнать в таком виде землю млека и меда[[469 - Землей молока и меда в Библии называлась Палестина.]]? Представь же себе посреди такого опустения Иерусалим, Вифлеем и все восточные города, похожие на беспорядочно сложенные груды камней и кирпичей; представь себе Иордан, тощий посреди обнаженных гористых окрестностей, кое-где осененный небольшими кустиками ив; представь себе посреди такого же опустения у ног Иерусалима долину Иосафатову с несколькими камнями и гротами, будто бы гробницами иудейских царей. Что могут проговорить тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифлеемом звезды, над струями Иордана голубя, сходящего из разверстых небес, в стенах иерусалимских Страшный день крестной смерти при помраченье всего вокруг и землятрясенье или Светлый день воскресенья, от блеска которого помрачится все окружающее, и нынешнее и минувшее[[470 - В этой фразе Гоголь перечисляет ключевые моменты евангельской истории.]]? Право, не знаю, что могу сообщить тебе такого о Палестине, что бы навело тебя на благодатные мысли и побудило бы тебя вдохновенно принять<ся> за перо и свою поэму. Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно. Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровожденье и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима. Как сквозь сон, видится мне самый Иерусалим с Элеонской горы – одно место, где он кажется обширным и великолепным: поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости на их плоских крышах кажутся бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей белизной от необыкновенно синего неба, представляют вместе с остриями минаретов какой-то играющий вид. Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги Вознесшегося[[471 - То есть Христа.]], чудесно вдавленный в твердом камне как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты. Еще помню вид, открывшийся мне вдруг посреди однообразных серых возвышений, когда, выехав из Иерусалима и видя перед собою все холмы да холмы, я уже не ждал ничего, – вдруг с одного холма, вдали, в голубом свете, огромным полукружьем предстали горы. Странные горы: они были похожи на бока или карнизы огромного высунувшего<ся> углом блюда. Дно этого блюда было Мертвое море. Бока его были голубовато-красноватого цвета, дно голубовато-зеленоватого. Никогда не видал я таких странных гор. Без пик и остроконечий, они сливались верьхами в одну ровную линию, составляя повсюду ровной высоты исполинский берег над морем. По ним не было приметно ни отлогостей, ни горных склонов; все они как бы состояли из бесчисленного числа граней, отливавших разными оттенками сквозь общий мглистый голубовато-красноватый цвет. Это вулканическое произведение – нагроможденный вал бесплодных каменьев – сияло издали красотой несказанной. Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа. Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете[[472 - В Назарете, по евангельскому преданию, родился Христос.]], точно как бы это случилось в России, на станции. Повсюду и на всем видел я только признаки явные того, что все эти ныне обнаженные страны, и преимущественно Иудея (ныне всех бесплоднейшая), были действительно землей млека и меда. По всем горам высечены уступы – следы некогда бывших виноградников, и теперь даже стоит только бросить одну горсть земли на эти обнаженные каменья, чтобы показались на ней вдруг сотни растений и цветов: столько влажности, необходимой для прозябенья, заключено в этих бесплодных каменьях! Но никто из нынешних жителей ничего не заводит, считая себя кочевыми, преходящими, только на время скитающимися в сей пораженной богом стране. Только в Яффе небольшое количество дерев ломится от тягости плодов, поражая красотой своего роста.
Друг, сообразил ли ты, чего просишь, прося от меня картин и впечатлений для той повести, которая должна быть вместе и внутренней историей твоей собственной души? Нет, все эти святые места уже должны быть в твоей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествие – и все святые окрестности восстанут пред тобою в том свете и колорите, в каком они должны восстать. Какую великолепную окрестность поднимает вокруг себя всякое слово в Евангелии! Как беден перед этим неизмеримым кругозором, открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, который озирается мертвыми очами ученого исследователя! Не вознегодуй же на меня, если ничего больше не сумел тебе сказать, кроме этой малой толики. Мне кажется, если бы ты сделал то же с Библией, что с Евангелием, то есть всякий день переводил бы из нее по главе, то Святая земля неминуемо бы предстала бы тебе благословенной богом и украшенной именно так, как была древле.
Шевыреву я передал и твой поклон, и твою просьбу. Теперь он загроможден делами по университету, которых навалили на него кучу. Но «Одиссеей» он займется непременно, как только сколько-нибудь удосужится. Тем более, что это занятье его много занимает[[473 - Шевырев написал рецензию только на перевод I части «Одиссеи» (М, 1849, № 1–3, отд. IV, с. 41–48, 49–53, 91–117).]]. Что же мне написать тебе об «Одиссее»? Сказавши в первом письме, что много есть в России людей тебе особенно за нее благодарных и что она совершенство, я сказал все. Да и что сказать о труде, в котором все части приведены в такую стройность и согласие? Если бы что-нибудь выступало сильней другого или было обработано лучше или же отстало, тогда бы нашлись речи. А теперь вся оценка сливается в одно слово: прекрасно! Притом если даже и хвалить картины, то похвалы все достанутся Гомеру, а не тебе. Переводчик поступил так, что его не видишь: он превратился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет стекла. Во II томе «Одиссеи» это еще более поразительно, чем в первом. Но прощай. Да поможет тебе тот, кто один только может быть вдохновителем в труде твоем! Обнимаю тебя всею мыслью, крепко. Бог в помощь!
Твой весь Н. Гоголь.
Обними за меня все близкое твоему сердцу. Мой адрес: на Никитском бульваре в доме Талызина.
Максимович просит убедительно стихов для альманаха «Киевлянин». Хоть двух строчек[[474 - В третьей книге альманаха «Киевлянин» (Киев, 1850), в связи с подготовкой которой Максимович обращался с просьбой к Жуковскому, стихов Жуковского нет.]].
Гоголь – Жуковскому В. А., 16 декабря 1850
16 декабря 1850 г. Одесса [[475 - Сочинения и письма, т. 6, с. 498–499 (с пропуском); Акад., XIV, № 204.]]
Поздравляю тебя с наступающим новым годом: бог в помощь, добрый друг! Везде, где бы ты ни был, где бы ни нашло тебя письмо мое, за какой бы работой ты ни сидел и каким бы делом и мыслью ни был занят, – бог в помощь! Мы давно друг к другу не писали; не писали, потому что не писалось, но, верно, мы думали часто друг о друге. Предмет, связавший тесней прежнего нас, близок равно сердцам нашим, и, мысля о нем, нельзя, чтобы мы не вспоминали друг о друге. Милосердый бог меня еще хранит, силы еще не слабеют, несмотря на слабость здоровья; работа идет с прежним постоянством, и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанью. Что ж делать? Покуда человек молод, он – поэт, даже и тогда, когда не писатель; когда же он созреет, он должен вспомнить, что он – человек, даже и тогда, когда писатель. А что человек? Его значенье высоко: ему определено стать выше ангела небесного, любовью пострадавшего за нас Христа. Покуда писатель молод, он пишет много и скоро. Воображенье подталкивает его беспрерывно. Он творит, строит очаровательные воздушные себе замки, и немудрено, что писанью, как и замкам, нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть покуда в немногих избранных и лучших, тут воображенье немного подвигнет писателя; нужно добывать с боя всякую черту. Хотелось бы очень прочесть тебе все, что написалось. Если бог благословит возврат твой в Россию будущим летом, то хорошо бы нам съехаться хоть на месяц туда, где расположишься ты на летнее пребыванье, будет ли это в Ревеле, Риге или где инде. Мы туда бы выписали Плетнева, Смирнову и еще кого-нибудь и провели бы прекрасно это время. Уведоми меня, мой добрый, близкий, близкий моему сердцу. Пиши в Одессу, куда я убежал от суровости зимы, подействовавшей было на меня довольно разрушительно в Москве, но, слава богу, в этом году она благосклонней. Жду с нетерпеньем от тебя двух слов и, обнимая тебя, повторяю: бог в помощь и тебе, и всем близким твоему сердцу.
Твой Н. Гоголь.
Адрес: В Одессе 1 части 1-го квартала. В доме генерал-маиора Трощинского.
16 декабря русского стиля.
Жуковский В. А. – Гоголю, 1(13) февраля 1851
1 (13) февраля 1851 г. Баден-Баден [[476 - М, 1853, № 2, с. 140–141 (с пропусками). Печатается по автографу (ИРЛИ).]]
Милый Гоголек. Вот уж моя очередь перед тобою виниться: на твое большое письмо я отвечал печатным, а на твое письмо о Палестине совсем не отвечал; оно чрезвычайно оригинально и интересно, хотя в нем одно, так сказать, негативное изображение того, что ты видел в земле обетованной. Но все придет в свой порядок в воспоминании. То, что не далось в настоящем, может сторицею даться в прошедшем. И со временем твои воспоминания о Святой земле будут для тебя живее твоего там присутствия. – Скажу тебе теперь несколько слов о себе. Но нет, еще несколько слов о тебе. Здесь, в Бадене, Кошелев (который, однако, нынче отъезжает); он обрадовал меня известием, что «Мертвые души» идут шибко вперед. Он знает, что ты читал многое Хомякову; но Хомяков не сказал, что, как и каково, сохраняя данное тебе обещание не произносить никакого суждения. Но для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется, – дело будет, верно, хорошо кончено.
Теперь обо мне. Я надеюсь, верно, возвратиться нынешнею весною или в начале лета в Россию. Прежде всего поеду в Дерпт и там на первый случай оставлю жену и детей; сам же в августе месяце отправлюсь в Москву и там отпраздную коронацию и царский юбилей[[477 - 25-летие со дня коронации Николая I.]]; туда, надеюсь, на это время съедутся все мои родные; туда, равно надеюсь, приедешь и ты и, по образу и подобию Хомякова, дашь мне хлебнуть твоих «Мертвых душ». – Я же теперь работаю много, но мои теперешние работы все ограничиваются педагогикою, то есть приготовлением к предварительному курсу учения детей моих; эта работа берет все мое время и не позволяет мне ни за что другое приняться. Если бы ее не было, то я бы перевел всю «Илиаду»[[478 - Первые опыты перевода «Илиады» Жуковский предпринял в конце 1820-х годов. В 1849 г., закончив перевод «Одиссеи», Жуковский приступил к «Илиаде», но смерть помешала ему осуществить этот замысел.]]; полторы песни переведены (каталог кораблей[[479 - «Каталог кораблей» дан во второй половине второй песни «Илиады».]] сбросил с плеч: это самое трудное), все пошло бы по маслу; но труд по службе, то есть по домашнему министерству просвещения, должен быть впереди; надеюсь, что «Илиада» от меня не уйдет: великое было бы дело оставить по себе в наследство отечеству полного Гомера. Об этом, однако, прошу тебя не говорить. Хотелось бы и «Вечного жида» успокоить; это<т> труд может быть результатом теперешних трудов моих; моли бога, чтобы даровал мне еще десяток лет здоровой жизни; я буду стараться употребить их с пользою, покорствуя святой его воле; тогда после меня что-нибудь дельное останется на добро детям моим и отечеству.
Прости, Гоголек. Я напишу к тебе, когда поеду отсюда или когда приеду в Россию. Жена дружески тебе кланяется.
Твой верный
Жуковский.
Баден 1/13 февраля 1851
Гоголь и П. А. Плетнев
Вступительная статья
Встреча Гоголя с Петром Александровичем Плетневым (1792–1865) состоялась в 1830 году. Их познакомил Жуковский, препоручивший явившегося к нему молодого человека заботам Плетнева, который был несомненным авторитетом для Гоголя: еще в 1829 году Плетневу был анонимно преподнесен экземпляр «Ганца Кюхельгартена».
Плетнев принадлежал к пушкинскому кругу, хотя сближение с этим кругом далось ему нелегко: сын сельского священника, получивший первоначальное образование в тверской семинарии, по происхождению и воспитанию он слишком отличался от «литературных аристократов». Только с Пушкиным и Дельвигом был он по-настоящему близок. Как литератора Плетнева ценили за его критические отзывы и статьи, писавшиеся с большим вкусом и тактом. Как издатель он был незаменим. Кроме того, он много и успешно занимался педагогической деятельностью: преподавал словесность в Екатерининском и Патриотическом институтах, а также в военно-учебных заведениях, давал уроки наследнику и великим княжнам. Позже, в 1840–1861 годах, он занимал должность ректора Петербургского университета.
Чуть ближе познакомившись с Гоголем, Плетнев начал активно содействовать и его служебной карьере, и его сближению с литературной средой. В 1831 году он порекомендовал Гоголя на место младшего учителя в Патриотическом институте, где сам в это время занимал должность инспектора, и помог ему получить частные уроки у Лонгиновых, Балабиных и Васильчиковых. По появлении в печати первых литературных опытов Гоголя Плетнев с большим воодушевлением писал Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа, с подписью 0000, также в «Литературной газете» «Мысли о преподавании географии», статью: «Женщина» и главу из малороссийской повести: «Учитель». Их написал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. 3. СПб., 1885, с. 366). Введя никому не известного начинающего малороссийского писателя в пушкинский круг, Плетнев содействовал решительному повороту в судьбе Гоголя.
В конце 1830-х годов и положение Плетнева, и его отношения с Гоголем изменились. После смерти Пушкина Плетнев осиротел. Ни с Жуковским, ни с Вяземским, ни с другими людьми пушкинского окружения у него не было подлинно близких связей. Связи с ними начали постепенно укрепляться лишь на протяжении 1840-х годов, когда эти люди, чувствуя себя в культурной изоляции, стали тянуться друг к другу, все больше дорожа прошлым. Одиночество, в котором оказался Плетнев, служит тем фоном, на котором развиваются и укрепляются в это время его отношения с Гоголем. Как прежде для Пушкина, так теперь для Гоголя Плетнев становится и другом, и издателем, и кассиром. Со времени отъезда Гоголя за границу Плетнев постоянно занят его денежными и издательскими делами. По выходе «Мертвых душ», когда вокруг книги разгорелась полемика и появились чрезвычайно недоброжелательные отзывы на нее, Плетнев опубликовал замечательно глубокий и тонкий разбор гоголевской поэмы.
В 1840-е годы взгляды Плетнева стали обретать ярко выраженный консервативный характер. Видя в нем своего единомышленника, Гоголь избрал его в издатели «Выбранных мест из переписки с друзьями». Плетнев принялся за дело с большим энтузиазмом, приступив к печатанию первых глав книги раньше, чем получил и прочел ее до конца. Сам склонный к сентиментальной исповедальности, он воспринял новое произведение Гоголя с чрезвычайным восторгом и был уверен, что оно совершит полный переворот в направлении русской литературы. Явно сочувствовал Плетнев и «Развязке «Ревизора», предприняв со своей стороны все возможное, чтобы ее разрешили к постановке. Как издателю «Выбранных мест…» Плетневу пришлось разделить с Гоголем негодование, вызванное выходом книги, выпущенной в свет вопреки настояниям С. Т. Аксакова не печатать произведение, которое «сделает Гоголя посмешищем всей России». После появления «Выбранных мест…» многие прежде близкие люди отвернулись от Гоголя – тем больше он стал дорожить дружбой Плетнева, поддержавшего его.
Все это не означает, однако, что в их отношениях не было осложнений. Преданный Пушкину, Плетнев после его смерти счел себя обязанным в память о нем продолжать издание «Современника» и лишь в 1846 г. передал его в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, оказавшись, таким образом, соединительным звеном между пушкинской плеядой и новым поколением писателей. В течение десяти лет Плетнев самоотверженно боролся за существование журнала – и не нашел поддержки ни в ком из ближайших друзей Пушкина. Не принимал деятельного участия в «Современнике» и Гоголь, вообще уклонявшийся от активного сотрудничества с какой бы то ни было журнальной партией. Плетнев не мог ни понять, ни простить этого. Он ревновал Гоголя к его московским друзьям: Аксаковым, Шевыреву, Погодину. Серьезное и, надо сказать, справедливое неудовольствие Плетнева Гоголь не раз вызывал своей необязательностью в делах. В переписке Гоголя и Плетнева содержатся письма, в которых взаимные упреки высказаны весьма откровенно. Но эта взаимная откровенность только содействовала укреплению отношений. Плетнев, после смерти Пушкина не сочувствовавший ни одной литературной группировке, одиноко и мужественно выполнявший то, что он считал своим долгом, для Гоголя всегда оставался надежной и верной опорой.
Переписка с Плетневым охватывает период с 1832 по 1851 год. Сохранилось 68 писем Гоголя и 23 письма Плетнева. В настоящем издании печатаются 17 писем Гоголя и 15 писем Плетнева.
Гоголь – Плетневу П. А., 9 октября 1832
9 октября 1832 г. Курск [[480 - Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. I, с. 263–264; Акад., X, № 147.]]
9-го октября. Курск.
Здоровы ли вы, бесценный Петр Александрович? Я всеминутно думаю об вас и рвуся скорее повеситься к вам на шею. Но судьба, как будто нарочно, поперечит мне на каждом шагу. В последнем письме моем, пущенном 11 сентября[[481 - Письмо не сохранилось.]], я писал вам о моем горе: что, поправившись немного в здоровье своем, собрался было ехать совсем; но сестры мои, которых везу с собою в Патр<иотический> инст<итут>, заболели корью, и я принужден был дожидаться, пока проклятая корь прошла[[482 - Сообщение о болезни сестер Гоголя корью содержится также в письме М. И. Гоголь к П. П. Косяровскому от 12 января 1830 г. (ИРЛИ).]]. Наконец 29 сентября я выехал из дому и, не сделавши 100 верст, переломал так свой экипаж, что принужден был прожить целую неделю в Курске, в этом скучном и несносном Курске. Вы счастливы, Петр Александрович! вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука. Но завтра чуть свет я подвигаюсь далее, и если даст бог, то к 20 октябрю буду в Петербурге. А до того времени, обнимая вас мысленно 1001 раз, остаюсь вечно ваш Гоголь.
Вы не можете себе представить, как я сгораю жаждою вас видеть. Один только любовник, летящий на свиданье, может со мною сравниться.
Гоголь – Плетневу П. А., 16(28) марта 1837
16 (28) марта 1837 г. Рим [[483 - Сочинения и письма, т. 5, с. 286–287 (с пропусками); Акад., XI, № 39.]]
Март 28/16. Рим.
Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России[[484 - Известие о смерти Пушкина.]]. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание…[[485 - В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь писал: «<…> Пушкин <…> отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которую, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ» (Акад., VIII, 440).]] Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.. Напишите мне хоть строчку, что делаете вы, или скажите об этом два слова Прокоповичу. Он будет писать ко мне. Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться. Пришлите мне деньги, которые должен внести мне Смирдин к первым числам апреля. Вручите их таким же порядком Штиглицу, дабы он отправил их к одному из банкиров в Риме для передачи мне. Лучше, если он переведет на Валентина, этот, говорят, честнее прочих здешних банкиров. Если возможно, то ускорите это сколько возможно. Я не мог вам написать прежде, потому что не установился на месте и шатался все в дороге.
Да хранит вас бог и сбережет от всего злого. Мой адрес: Via S. Isidoro, № 17, rimpetto alla chiesa S. Isidoro, vicino alla Piazza Barbierini.
N. Гоголь.
Гоголь – Плетневу П. А., 7 января 1842
7 января 1842 г. Москва [[486 - РА, 1866, № 5, с. 766–769; Акад., XII, № 2.]]
Генваря 7.
Расстроенный и телом и духом пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург, мне это нужно[[487 - Гоголю нужно было хлопотать о проведении через цензуру рукописи «Мертвых душ», запрещенной московской цензурой.]], это я знаю, и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы… но бог с ними, не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить. Удар для меня никак не ожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев чрез два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места, перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил), – нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет[[488 - Описываемое далее заседание Московского цензурного комитета состоялось 12 декабря 1841 г.]]. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения все без исключения были комедия в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. «Нет, – закричал председатель и за ним половина цензоров. – Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа, – уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаше, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.
«Предприятие Чичикова, – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление». «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Это главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор (Каченовский). Тут по поводу завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня вдобавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком сурьезно. Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существованье заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня не много, а теперь просто у меня отымаются руки. Но что я пишу вам, уже не помню, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю[[489 - Запрещенная Московским цензурным комитетом, рукопись «Мертвых душ» была послана Гоголем через Белинского в Петербург, где вопрос о публикации разрешился благоприятно. 9 марта 1842 г. цензор А. В. Никитенко сделал разрешительную надпись, однако, кроме отдельных искажений текста, из него была полностью изъята «Повесть о капитане Копейкине». Настаивая на ее публикации, Гоголь переделал «Повесть…» и 10 апреля 1842 г. послал Никитенко ее новый вариант (см.: Акад., XII, № 39). 7 мая разрешенная редакция повести была отправлена Гоголю.]]. Я об этом пишу к Александре Осиповне Смирновой. Я просил ее через великих княжон или другими путями, это ваше дело, об этом вы сделаете совещание вместе. Попросите Александру Осиповну, чтобы она прочла вам мое письмо. Рукопись моя у князя Одоевского[[490 - Передать рукопись В. Ф. Одоевскому взял на себя В. Г. Белинский, привезший ее из Москвы в Петербург и хлопотавший о проведении ее через петербургскую цензуру.]]. Вы прочитайте ее вместе человека три-четыре, не больше. Не нужно об этом деле производить огласки. Только те, которые меня очень любят, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами тратить больше слов! Обнимаю сильно вас, и да благословит вас бог! Если рукопись будет разрешена и нужно будет только для проформы дать цензору, то, я думаю, лучше дать Очкину для подписанья, а впрочем, как найдете вы. Не в силах больше писать.
Весь ваш Гоголь.
Гоголь – Плетневу П. А., 17 марта 1842
28 февраля 1850 г. Москва [[468 - Сочинения и письма, т. 6, с. 477–481 (с пропусками); Акад., XIV, № 148.]]
28 февраля, Москва.
Почувствовав облегченье от болезни, в которой пробыл недели полторы, принимаюсь отвечать. Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками в таком виде, чтобы они могли послужить в пользу твоему «Вечному жиду». Знаешь ли, какую тяжелую ты мне задал задачу? Что могу сказать я, чего бы ни сказали уже другие? Какие краски, какие черты представлю, когда все уже пересказано, перерисовано со всеми малейшими подробностями? Да и к чему эти бедные черты, когда всякое событие евангельское и без того уже обстанавливается в уме христианина такими окрестностями, которые гораздо ближе дают чувствовать минувшее время, чем все ныне видимые местности, обнаженные, мертвые? Что могут сказать, например, ныне места, по которым прошел скорбный путь Спасителя ко кресту, которые все теперь собраны под одну крышу храма, так что и св. гроб, и Голгофа, и место, где Спаситель показан был Пилатом народу, и жилище архиерея, к которому он был проводим, и место нахождения животворного креста – все очутилось вместе? Что могут все эти места, которые привыкли мы мерять расстояниями, произвести другого, как разве только сбить с толку любопытного наблюдателя, если только они уже не врезались заблаговременно и прежде в его сердце и в свете пламенеющей веры не предстоят ежеминутно перед мысленными его очами? Что может сказать поэту-живописцу нынешний вид всей Иудеи с ее однообразными горами, похожими на бесконечные серые волны взбугрившегося моря? Все это, верно, было живописно во времена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый еврей сидел под тенью им насажденного древа, но теперь, когда редко-редко где встретишь пять-шесть олив на всей покатости горы, цветом зелени своей так же сероватых и пыльных, как и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха да урывками клочки травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровного поля каменьев да через каких-нибудь пять-шесть часов пути попадется где-нибудь приклеившаяся к горе хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную нору, чем на жилище человека, как узнать в таком виде землю млека и меда[[469 - Землей молока и меда в Библии называлась Палестина.]]? Представь же себе посреди такого опустения Иерусалим, Вифлеем и все восточные города, похожие на беспорядочно сложенные груды камней и кирпичей; представь себе Иордан, тощий посреди обнаженных гористых окрестностей, кое-где осененный небольшими кустиками ив; представь себе посреди такого же опустения у ног Иерусалима долину Иосафатову с несколькими камнями и гротами, будто бы гробницами иудейских царей. Что могут проговорить тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифлеемом звезды, над струями Иордана голубя, сходящего из разверстых небес, в стенах иерусалимских Страшный день крестной смерти при помраченье всего вокруг и землятрясенье или Светлый день воскресенья, от блеска которого помрачится все окружающее, и нынешнее и минувшее[[470 - В этой фразе Гоголь перечисляет ключевые моменты евангельской истории.]]? Право, не знаю, что могу сообщить тебе такого о Палестине, что бы навело тебя на благодатные мысли и побудило бы тебя вдохновенно принять<ся> за перо и свою поэму. Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно. Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровожденье и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима. Как сквозь сон, видится мне самый Иерусалим с Элеонской горы – одно место, где он кажется обширным и великолепным: поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости на их плоских крышах кажутся бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей белизной от необыкновенно синего неба, представляют вместе с остриями минаретов какой-то играющий вид. Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги Вознесшегося[[471 - То есть Христа.]], чудесно вдавленный в твердом камне как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты. Еще помню вид, открывшийся мне вдруг посреди однообразных серых возвышений, когда, выехав из Иерусалима и видя перед собою все холмы да холмы, я уже не ждал ничего, – вдруг с одного холма, вдали, в голубом свете, огромным полукружьем предстали горы. Странные горы: они были похожи на бока или карнизы огромного высунувшего<ся> углом блюда. Дно этого блюда было Мертвое море. Бока его были голубовато-красноватого цвета, дно голубовато-зеленоватого. Никогда не видал я таких странных гор. Без пик и остроконечий, они сливались верьхами в одну ровную линию, составляя повсюду ровной высоты исполинский берег над морем. По ним не было приметно ни отлогостей, ни горных склонов; все они как бы состояли из бесчисленного числа граней, отливавших разными оттенками сквозь общий мглистый голубовато-красноватый цвет. Это вулканическое произведение – нагроможденный вал бесплодных каменьев – сияло издали красотой несказанной. Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа. Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете[[472 - В Назарете, по евангельскому преданию, родился Христос.]], точно как бы это случилось в России, на станции. Повсюду и на всем видел я только признаки явные того, что все эти ныне обнаженные страны, и преимущественно Иудея (ныне всех бесплоднейшая), были действительно землей млека и меда. По всем горам высечены уступы – следы некогда бывших виноградников, и теперь даже стоит только бросить одну горсть земли на эти обнаженные каменья, чтобы показались на ней вдруг сотни растений и цветов: столько влажности, необходимой для прозябенья, заключено в этих бесплодных каменьях! Но никто из нынешних жителей ничего не заводит, считая себя кочевыми, преходящими, только на время скитающимися в сей пораженной богом стране. Только в Яффе небольшое количество дерев ломится от тягости плодов, поражая красотой своего роста.
Друг, сообразил ли ты, чего просишь, прося от меня картин и впечатлений для той повести, которая должна быть вместе и внутренней историей твоей собственной души? Нет, все эти святые места уже должны быть в твоей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествие – и все святые окрестности восстанут пред тобою в том свете и колорите, в каком они должны восстать. Какую великолепную окрестность поднимает вокруг себя всякое слово в Евангелии! Как беден перед этим неизмеримым кругозором, открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, который озирается мертвыми очами ученого исследователя! Не вознегодуй же на меня, если ничего больше не сумел тебе сказать, кроме этой малой толики. Мне кажется, если бы ты сделал то же с Библией, что с Евангелием, то есть всякий день переводил бы из нее по главе, то Святая земля неминуемо бы предстала бы тебе благословенной богом и украшенной именно так, как была древле.
Шевыреву я передал и твой поклон, и твою просьбу. Теперь он загроможден делами по университету, которых навалили на него кучу. Но «Одиссеей» он займется непременно, как только сколько-нибудь удосужится. Тем более, что это занятье его много занимает[[473 - Шевырев написал рецензию только на перевод I части «Одиссеи» (М, 1849, № 1–3, отд. IV, с. 41–48, 49–53, 91–117).]]. Что же мне написать тебе об «Одиссее»? Сказавши в первом письме, что много есть в России людей тебе особенно за нее благодарных и что она совершенство, я сказал все. Да и что сказать о труде, в котором все части приведены в такую стройность и согласие? Если бы что-нибудь выступало сильней другого или было обработано лучше или же отстало, тогда бы нашлись речи. А теперь вся оценка сливается в одно слово: прекрасно! Притом если даже и хвалить картины, то похвалы все достанутся Гомеру, а не тебе. Переводчик поступил так, что его не видишь: он превратился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет стекла. Во II томе «Одиссеи» это еще более поразительно, чем в первом. Но прощай. Да поможет тебе тот, кто один только может быть вдохновителем в труде твоем! Обнимаю тебя всею мыслью, крепко. Бог в помощь!
Твой весь Н. Гоголь.
Обними за меня все близкое твоему сердцу. Мой адрес: на Никитском бульваре в доме Талызина.
Максимович просит убедительно стихов для альманаха «Киевлянин». Хоть двух строчек[[474 - В третьей книге альманаха «Киевлянин» (Киев, 1850), в связи с подготовкой которой Максимович обращался с просьбой к Жуковскому, стихов Жуковского нет.]].
Гоголь – Жуковскому В. А., 16 декабря 1850
16 декабря 1850 г. Одесса [[475 - Сочинения и письма, т. 6, с. 498–499 (с пропуском); Акад., XIV, № 204.]]
Поздравляю тебя с наступающим новым годом: бог в помощь, добрый друг! Везде, где бы ты ни был, где бы ни нашло тебя письмо мое, за какой бы работой ты ни сидел и каким бы делом и мыслью ни был занят, – бог в помощь! Мы давно друг к другу не писали; не писали, потому что не писалось, но, верно, мы думали часто друг о друге. Предмет, связавший тесней прежнего нас, близок равно сердцам нашим, и, мысля о нем, нельзя, чтобы мы не вспоминали друг о друге. Милосердый бог меня еще хранит, силы еще не слабеют, несмотря на слабость здоровья; работа идет с прежним постоянством, и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанью. Что ж делать? Покуда человек молод, он – поэт, даже и тогда, когда не писатель; когда же он созреет, он должен вспомнить, что он – человек, даже и тогда, когда писатель. А что человек? Его значенье высоко: ему определено стать выше ангела небесного, любовью пострадавшего за нас Христа. Покуда писатель молод, он пишет много и скоро. Воображенье подталкивает его беспрерывно. Он творит, строит очаровательные воздушные себе замки, и немудрено, что писанью, как и замкам, нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть покуда в немногих избранных и лучших, тут воображенье немного подвигнет писателя; нужно добывать с боя всякую черту. Хотелось бы очень прочесть тебе все, что написалось. Если бог благословит возврат твой в Россию будущим летом, то хорошо бы нам съехаться хоть на месяц туда, где расположишься ты на летнее пребыванье, будет ли это в Ревеле, Риге или где инде. Мы туда бы выписали Плетнева, Смирнову и еще кого-нибудь и провели бы прекрасно это время. Уведоми меня, мой добрый, близкий, близкий моему сердцу. Пиши в Одессу, куда я убежал от суровости зимы, подействовавшей было на меня довольно разрушительно в Москве, но, слава богу, в этом году она благосклонней. Жду с нетерпеньем от тебя двух слов и, обнимая тебя, повторяю: бог в помощь и тебе, и всем близким твоему сердцу.
Твой Н. Гоголь.
Адрес: В Одессе 1 части 1-го квартала. В доме генерал-маиора Трощинского.
16 декабря русского стиля.
Жуковский В. А. – Гоголю, 1(13) февраля 1851
1 (13) февраля 1851 г. Баден-Баден [[476 - М, 1853, № 2, с. 140–141 (с пропусками). Печатается по автографу (ИРЛИ).]]
Милый Гоголек. Вот уж моя очередь перед тобою виниться: на твое большое письмо я отвечал печатным, а на твое письмо о Палестине совсем не отвечал; оно чрезвычайно оригинально и интересно, хотя в нем одно, так сказать, негативное изображение того, что ты видел в земле обетованной. Но все придет в свой порядок в воспоминании. То, что не далось в настоящем, может сторицею даться в прошедшем. И со временем твои воспоминания о Святой земле будут для тебя живее твоего там присутствия. – Скажу тебе теперь несколько слов о себе. Но нет, еще несколько слов о тебе. Здесь, в Бадене, Кошелев (который, однако, нынче отъезжает); он обрадовал меня известием, что «Мертвые души» идут шибко вперед. Он знает, что ты читал многое Хомякову; но Хомяков не сказал, что, как и каково, сохраняя данное тебе обещание не произносить никакого суждения. Но для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется, – дело будет, верно, хорошо кончено.
Теперь обо мне. Я надеюсь, верно, возвратиться нынешнею весною или в начале лета в Россию. Прежде всего поеду в Дерпт и там на первый случай оставлю жену и детей; сам же в августе месяце отправлюсь в Москву и там отпраздную коронацию и царский юбилей[[477 - 25-летие со дня коронации Николая I.]]; туда, надеюсь, на это время съедутся все мои родные; туда, равно надеюсь, приедешь и ты и, по образу и подобию Хомякова, дашь мне хлебнуть твоих «Мертвых душ». – Я же теперь работаю много, но мои теперешние работы все ограничиваются педагогикою, то есть приготовлением к предварительному курсу учения детей моих; эта работа берет все мое время и не позволяет мне ни за что другое приняться. Если бы ее не было, то я бы перевел всю «Илиаду»[[478 - Первые опыты перевода «Илиады» Жуковский предпринял в конце 1820-х годов. В 1849 г., закончив перевод «Одиссеи», Жуковский приступил к «Илиаде», но смерть помешала ему осуществить этот замысел.]]; полторы песни переведены (каталог кораблей[[479 - «Каталог кораблей» дан во второй половине второй песни «Илиады».]] сбросил с плеч: это самое трудное), все пошло бы по маслу; но труд по службе, то есть по домашнему министерству просвещения, должен быть впереди; надеюсь, что «Илиада» от меня не уйдет: великое было бы дело оставить по себе в наследство отечеству полного Гомера. Об этом, однако, прошу тебя не говорить. Хотелось бы и «Вечного жида» успокоить; это<т> труд может быть результатом теперешних трудов моих; моли бога, чтобы даровал мне еще десяток лет здоровой жизни; я буду стараться употребить их с пользою, покорствуя святой его воле; тогда после меня что-нибудь дельное останется на добро детям моим и отечеству.
Прости, Гоголек. Я напишу к тебе, когда поеду отсюда или когда приеду в Россию. Жена дружески тебе кланяется.
Твой верный
Жуковский.
Баден 1/13 февраля 1851
Гоголь и П. А. Плетнев
Вступительная статья
Встреча Гоголя с Петром Александровичем Плетневым (1792–1865) состоялась в 1830 году. Их познакомил Жуковский, препоручивший явившегося к нему молодого человека заботам Плетнева, который был несомненным авторитетом для Гоголя: еще в 1829 году Плетневу был анонимно преподнесен экземпляр «Ганца Кюхельгартена».
Плетнев принадлежал к пушкинскому кругу, хотя сближение с этим кругом далось ему нелегко: сын сельского священника, получивший первоначальное образование в тверской семинарии, по происхождению и воспитанию он слишком отличался от «литературных аристократов». Только с Пушкиным и Дельвигом был он по-настоящему близок. Как литератора Плетнева ценили за его критические отзывы и статьи, писавшиеся с большим вкусом и тактом. Как издатель он был незаменим. Кроме того, он много и успешно занимался педагогической деятельностью: преподавал словесность в Екатерининском и Патриотическом институтах, а также в военно-учебных заведениях, давал уроки наследнику и великим княжнам. Позже, в 1840–1861 годах, он занимал должность ректора Петербургского университета.
Чуть ближе познакомившись с Гоголем, Плетнев начал активно содействовать и его служебной карьере, и его сближению с литературной средой. В 1831 году он порекомендовал Гоголя на место младшего учителя в Патриотическом институте, где сам в это время занимал должность инспектора, и помог ему получить частные уроки у Лонгиновых, Балабиных и Васильчиковых. По появлении в печати первых литературных опытов Гоголя Плетнев с большим воодушевлением писал Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа, с подписью 0000, также в «Литературной газете» «Мысли о преподавании географии», статью: «Женщина» и главу из малороссийской повести: «Учитель». Их написал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. 3. СПб., 1885, с. 366). Введя никому не известного начинающего малороссийского писателя в пушкинский круг, Плетнев содействовал решительному повороту в судьбе Гоголя.
В конце 1830-х годов и положение Плетнева, и его отношения с Гоголем изменились. После смерти Пушкина Плетнев осиротел. Ни с Жуковским, ни с Вяземским, ни с другими людьми пушкинского окружения у него не было подлинно близких связей. Связи с ними начали постепенно укрепляться лишь на протяжении 1840-х годов, когда эти люди, чувствуя себя в культурной изоляции, стали тянуться друг к другу, все больше дорожа прошлым. Одиночество, в котором оказался Плетнев, служит тем фоном, на котором развиваются и укрепляются в это время его отношения с Гоголем. Как прежде для Пушкина, так теперь для Гоголя Плетнев становится и другом, и издателем, и кассиром. Со времени отъезда Гоголя за границу Плетнев постоянно занят его денежными и издательскими делами. По выходе «Мертвых душ», когда вокруг книги разгорелась полемика и появились чрезвычайно недоброжелательные отзывы на нее, Плетнев опубликовал замечательно глубокий и тонкий разбор гоголевской поэмы.
В 1840-е годы взгляды Плетнева стали обретать ярко выраженный консервативный характер. Видя в нем своего единомышленника, Гоголь избрал его в издатели «Выбранных мест из переписки с друзьями». Плетнев принялся за дело с большим энтузиазмом, приступив к печатанию первых глав книги раньше, чем получил и прочел ее до конца. Сам склонный к сентиментальной исповедальности, он воспринял новое произведение Гоголя с чрезвычайным восторгом и был уверен, что оно совершит полный переворот в направлении русской литературы. Явно сочувствовал Плетнев и «Развязке «Ревизора», предприняв со своей стороны все возможное, чтобы ее разрешили к постановке. Как издателю «Выбранных мест…» Плетневу пришлось разделить с Гоголем негодование, вызванное выходом книги, выпущенной в свет вопреки настояниям С. Т. Аксакова не печатать произведение, которое «сделает Гоголя посмешищем всей России». После появления «Выбранных мест…» многие прежде близкие люди отвернулись от Гоголя – тем больше он стал дорожить дружбой Плетнева, поддержавшего его.
Все это не означает, однако, что в их отношениях не было осложнений. Преданный Пушкину, Плетнев после его смерти счел себя обязанным в память о нем продолжать издание «Современника» и лишь в 1846 г. передал его в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, оказавшись, таким образом, соединительным звеном между пушкинской плеядой и новым поколением писателей. В течение десяти лет Плетнев самоотверженно боролся за существование журнала – и не нашел поддержки ни в ком из ближайших друзей Пушкина. Не принимал деятельного участия в «Современнике» и Гоголь, вообще уклонявшийся от активного сотрудничества с какой бы то ни было журнальной партией. Плетнев не мог ни понять, ни простить этого. Он ревновал Гоголя к его московским друзьям: Аксаковым, Шевыреву, Погодину. Серьезное и, надо сказать, справедливое неудовольствие Плетнева Гоголь не раз вызывал своей необязательностью в делах. В переписке Гоголя и Плетнева содержатся письма, в которых взаимные упреки высказаны весьма откровенно. Но эта взаимная откровенность только содействовала укреплению отношений. Плетнев, после смерти Пушкина не сочувствовавший ни одной литературной группировке, одиноко и мужественно выполнявший то, что он считал своим долгом, для Гоголя всегда оставался надежной и верной опорой.
Переписка с Плетневым охватывает период с 1832 по 1851 год. Сохранилось 68 писем Гоголя и 23 письма Плетнева. В настоящем издании печатаются 17 писем Гоголя и 15 писем Плетнева.
Гоголь – Плетневу П. А., 9 октября 1832
9 октября 1832 г. Курск [[480 - Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. I, с. 263–264; Акад., X, № 147.]]
9-го октября. Курск.
Здоровы ли вы, бесценный Петр Александрович? Я всеминутно думаю об вас и рвуся скорее повеситься к вам на шею. Но судьба, как будто нарочно, поперечит мне на каждом шагу. В последнем письме моем, пущенном 11 сентября[[481 - Письмо не сохранилось.]], я писал вам о моем горе: что, поправившись немного в здоровье своем, собрался было ехать совсем; но сестры мои, которых везу с собою в Патр<иотический> инст<итут>, заболели корью, и я принужден был дожидаться, пока проклятая корь прошла[[482 - Сообщение о болезни сестер Гоголя корью содержится также в письме М. И. Гоголь к П. П. Косяровскому от 12 января 1830 г. (ИРЛИ).]]. Наконец 29 сентября я выехал из дому и, не сделавши 100 верст, переломал так свой экипаж, что принужден был прожить целую неделю в Курске, в этом скучном и несносном Курске. Вы счастливы, Петр Александрович! вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука. Но завтра чуть свет я подвигаюсь далее, и если даст бог, то к 20 октябрю буду в Петербурге. А до того времени, обнимая вас мысленно 1001 раз, остаюсь вечно ваш Гоголь.
Вы не можете себе представить, как я сгораю жаждою вас видеть. Один только любовник, летящий на свиданье, может со мною сравниться.
Гоголь – Плетневу П. А., 16(28) марта 1837
16 (28) марта 1837 г. Рим [[483 - Сочинения и письма, т. 5, с. 286–287 (с пропусками); Акад., XI, № 39.]]
Март 28/16. Рим.
Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России[[484 - Известие о смерти Пушкина.]]. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание…[[485 - В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь писал: «<…> Пушкин <…> отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которую, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ» (Акад., VIII, 440).]] Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.. Напишите мне хоть строчку, что делаете вы, или скажите об этом два слова Прокоповичу. Он будет писать ко мне. Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться. Пришлите мне деньги, которые должен внести мне Смирдин к первым числам апреля. Вручите их таким же порядком Штиглицу, дабы он отправил их к одному из банкиров в Риме для передачи мне. Лучше, если он переведет на Валентина, этот, говорят, честнее прочих здешних банкиров. Если возможно, то ускорите это сколько возможно. Я не мог вам написать прежде, потому что не установился на месте и шатался все в дороге.
Да хранит вас бог и сбережет от всего злого. Мой адрес: Via S. Isidoro, № 17, rimpetto alla chiesa S. Isidoro, vicino alla Piazza Barbierini.
N. Гоголь.
Гоголь – Плетневу П. А., 7 января 1842
7 января 1842 г. Москва [[486 - РА, 1866, № 5, с. 766–769; Акад., XII, № 2.]]
Генваря 7.
Расстроенный и телом и духом пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург, мне это нужно[[487 - Гоголю нужно было хлопотать о проведении через цензуру рукописи «Мертвых душ», запрещенной московской цензурой.]], это я знаю, и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы… но бог с ними, не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить. Удар для меня никак не ожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев чрез два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места, перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил), – нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет[[488 - Описываемое далее заседание Московского цензурного комитета состоялось 12 декабря 1841 г.]]. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения все без исключения были комедия в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. «Нет, – закричал председатель и за ним половина цензоров. – Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа, – уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаше, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.
«Предприятие Чичикова, – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление». «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Это главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор (Каченовский). Тут по поводу завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня вдобавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком сурьезно. Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существованье заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня не много, а теперь просто у меня отымаются руки. Но что я пишу вам, уже не помню, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю[[489 - Запрещенная Московским цензурным комитетом, рукопись «Мертвых душ» была послана Гоголем через Белинского в Петербург, где вопрос о публикации разрешился благоприятно. 9 марта 1842 г. цензор А. В. Никитенко сделал разрешительную надпись, однако, кроме отдельных искажений текста, из него была полностью изъята «Повесть о капитане Копейкине». Настаивая на ее публикации, Гоголь переделал «Повесть…» и 10 апреля 1842 г. послал Никитенко ее новый вариант (см.: Акад., XII, № 39). 7 мая разрешенная редакция повести была отправлена Гоголю.]]. Я об этом пишу к Александре Осиповне Смирновой. Я просил ее через великих княжон или другими путями, это ваше дело, об этом вы сделаете совещание вместе. Попросите Александру Осиповну, чтобы она прочла вам мое письмо. Рукопись моя у князя Одоевского[[490 - Передать рукопись В. Ф. Одоевскому взял на себя В. Г. Белинский, привезший ее из Москвы в Петербург и хлопотавший о проведении ее через петербургскую цензуру.]]. Вы прочитайте ее вместе человека три-четыре, не больше. Не нужно об этом деле производить огласки. Только те, которые меня очень любят, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами тратить больше слов! Обнимаю сильно вас, и да благословит вас бог! Если рукопись будет разрешена и нужно будет только для проформы дать цензору, то, я думаю, лучше дать Очкину для подписанья, а впрочем, как найдете вы. Не в силах больше писать.
Весь ваш Гоголь.
Гоголь – Плетневу П. А., 17 марта 1842