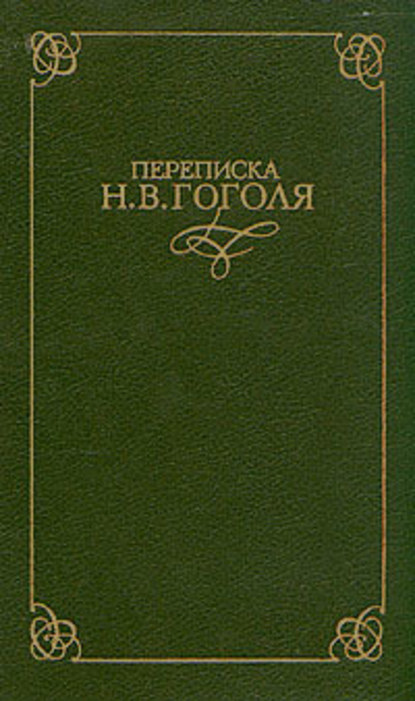По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ваш Жуковский.
29 генв. / 10 февр.
P. S. Я хотел вчера послать это письмо и вексель; но Убриль советовал мне, чтобы избавить вас от хлопот, через Родшильда снестись с гамбургским банкиром, на которого вексель адресован, и взять от него для вас свидетельство, что по векселю (prima) не уплачено. Без этого свидетельства неаполитанский банкир не выдаст вам денег; он от себя пошлет справку в Неаполь, и это протянется долее. Убриль сам взялся хлопотать об этом деле; когда ему вексель будет возвращен, то он перешлет его к нашему министру в Неаполе Потоцкому для доставления вам, а вы на этот счет его предуведомите. А меня все-таки известите о получении сего письма, дабы я знал, что вы о прибытии векселя предуведомлены. И от меня пошлется к вам в нынешнем месяце третья тысяча; о получении двух первых вы никакого не дали мне письменного документа; а для порядка это было бы не лишнее, понеже эти деньги даны великим князем, а я обязан дать отчет в уплате их если не ему самому, то его конторе. Прощайте.
Жуковский В. А. – Гоголю, 6(18) февраля 1847
6 (18) февраля 1847 г. Франкфурт-на-Майне [[413 - М, 1853, № 2, с. 105 (с пропусками). Печатается по автографу (ГПБ).]]
6/18 февраля 1847.
Мой милый Гоголек, коротенькое письмецо твое, со вложением выписки из письма Шевырева, я получил – благодарю. Жаль для нас, что тот Языков, который теперь разовьется из души, освобожденной от земного, не перед нами совершит свое развитие и что это явление отнято у земли. Ему, во всяком случае, лучше, легче и радостнее, нежели нам. Но я не намерен теперь писать много. Хочу только сказать, что твоя книга[[414 - «Выбранные места из переписки с друзьями».]] теперь в моих руках, что я уже ее всю прочитал или почти всю, то есть кроме двух последних статей, уже мне известных, что я в ней нашел два письма ко мне[[415 - «О лиризме наших поэтов» и «Просвещение».]], которые сделали большой крюк в Петербург, дабы из типографии департамента внешней торговли дойти до меня в печатном образе; что я все это прочитал с жадностью, часто с живым удовольствием, часто и с живою досадою на автора, который (вопреки своему прекрасному рассуждению о том, что такое слово[[416 - Имеется в виду глава «О том, что такое слово».]]) сам согрешил против слова, позволив некоторым местам из своей книги (от спеха выдать ее в свет) явиться в таком неопрятном виде, что, наконец, эта книга должна произвести и произведет всеобщее сильное и благотворное действие, что я намерен ее перечитать медленно в другой раз и что по мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей, что эта переписка может также составить книгу[[417 - Этот план был осуществлен лишь отчасти. В конце 1847 – начале 1848 г. Жуковский написал в форме писем к Гоголю статьи «О смерти», «О молитве», «О поэте и современном его значении».]], которая, если подлинно будет в ней что-нибудь достойное общего внимания, может выйти вслед за первою и вместе с нею пробудить в головах русских также несколько добрых мыслей. Итак, Гоголек, жди от меня длинных писем; я дам волю перу своему и наперед не делаю никакого плана – план был бы неуместен и мне бы даже повредил. Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей; мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра, – это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки (то есть нападки любви к тебе и к добру, которое мы оба любим), но эти нападки будут более на форму, нежели на содержание. Горе и досада берет, что ты так поспешил. И на что была нужна эта поспешность, понять не могу. Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мною во Франкфурте, мы бы все вместе пережевали и книга бы была избавлена от многих пятен литературных и типографических, которых теперь с нее не снимешь. И мне бы ты был полезен, ибо все это время было бы для меня время испытания; оно еще и теперь почти так же круто, как было, в некотором отношении еще круче: у Рейтерна большая часть дома больна; он сам до сих пор все страдал разным образом; теперь больны нервическою горячкою Миа, Жатто[[418 - Сестра и брат жены Жуковского.]] и девка в доме, а женина болезнь усиливается беспокойством о сестре и брате; болезнь же ее ты знаешь на себе – но довольно. Прости.
Твой Жуковский.
Прошу написать мне, долго ли пробудешь ты в Неаполе; куда и когда отправишься.
Жуковский В. А. – Гоголю, 8(20) февраля 1847
8 (20) февраля 1847 г. Франкфурт-на-Майне [[419 - Отчет… за 1887 г., с. 55–57 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).]]
Странные дела происходят на земле, любезный Гоголек. В генваре 1845 года послан ко мне вексель на ваше имя – я его не получал; а только с генваря 1847 спрашивают у меня: получил ли я этот вексель? Следовательно, в течение ровно двух лет никто не позаботился узнать, что сделалось с этим векселем. Хорош ты, Гоголек. А даешь прекрасные советы экономии дамам и эти советы еще печатаешь для пользы всей России[[420 - Намек на «Выбранные места…» (статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», а также «Женщина в свете», «О помощи бедным»).]]. Хорошо, что Плетневу вздумалось сделать проруху и послать вексель secunda ко мне во Франкфурт, а не прямо к тебе в Неаполь. Там бы тебе по этому векселю не дали денег, ибо нужно бы было при нем представить свидетельство, что по векселю prima не было уплаты. Теперь это дело решено; из Гамбурга пришло уведомление, что prima не уплачен (куда он девался, бог ведает). Франкфуртский Родшильд напишет завтра к неаполитанскому Родшильду, чтобы по векселю сделать уплату, как скоро ты с ним явишься. Ему же дано поручение выдать тебе и от меня 1000 рублей ассигнациями, в принятии которых ты должен дать ему расписку, дабы, по предъявлении сей расписки мне, я мог заплатить здешнему Родшильду деньги. Вексель же твой secunda для большей верности послан Убрилем к нашему посланнику Потоцкому, к которому прошу немедля явиться и взять вексель, а меня уведомить об его получении. Из великокняжеских же денег теперь выдано мною тебе 3000 рублей, остается еще на мне одна тысяча, которая в будущем году в феврале месяце к тебе пошлется… но куда? Итак:
1) по получении сего письма ты явишься к Потоцкому, он выдаст тебе вексель secunda, отправленный к нему Убрилем.
2) С этим векселем secunda явишься в контору Родшильда и получишь там по нему уплату.
3) У того же Родшильда потребуешь 1000 рублей ассигнациями, которые здешним Родшильдом поручено ему выдать тебе моим именем.
4) Обо всем этом меня уведомишь.
Еще переписки с тобою я не начинал; но скоро начну ее.
Прощай. Обнимаю сердечно.
Жуковский.
8/20 февраля 1847.
Гоголь – Жуковскому В. А., 20 февраля (4 марта) 1847
20 февраля (4 марта) 1847 г. Неаполь [[421 - РС, 1895, № 9, с. 213–215; Акад., XIII, № 123.]]
Оба письма (одно от 4-го февраля и другое от 10-го) мною получены одно за другим, хотя они шли довольно долго. Еще не получая их, я отправил также два письма, одно за другим. В одном была вложена выписка из письма Шевырева о кончине Языкова; в другом извещение о выпуске в свет моей книги (в изуродованном виде). То и другое было равно скорбно в двух различных отношениях. Но велик бог, приуготовляющий заблаговременно нашу душу к перенесению утрат. О! да будет он с нами, да совершается все по его святой воле, но да не оставляет он нас и да пребудет с нами в часы утрат наших! Мне было также скорбно слышать о недугах и страданьях нервических Елизаветы Алексеевны[[422 - Жены Жуковского.]]. Но я верю милосердию божиему, верю, что это совершается для чего-то во благо души. И душа ее после этих недугов, которые пройдут, воссияет, убранная новыми драгоценными убранствами.
Я получил на днях письмо от Смирновой[[423 - Письмо от 11 января 1847 г. (РС, 1890, № 8, с. 282–284).]]. Она теперь оправилась от своих нервических страданий, которые были ужасны и, как сама она говорит, отняли у ней все силы и самый ум. Теперь она не знает, как благодарить бога за это время и за сокровища, которые оно принесло к ней в душу. Она говорит правду: в словах самого письма ее отражается какая-то полнота разума и твердое, несокрушимое упование. Скажу и о себе: мое здоровье так же в это время расстроилось (ночи мои еще до сих пор без сна). Сверх всего этого, сверх самого удаленья от нас в лучшую страну Языкова, который так любил меня (два раза всякий месяц писал он ко мне и, несмотря на все свои недуги, был исправней всех моих корреспондентов), сверх всего этого мне случилося получить всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей от людей, разумеется, не знающих души моей. Но как все это было нужно! Как все это было нужно! Я и подумать не мог, как много во мне еще осталось гордости, самонадеянности, самолюбия, самонадменности и высокомерия. Да будет благословен бог, раскрывающий перед нами нашу душу. Мне кажется, как будто после всего этого я стал теперь проще и как будто ровнее: сужу по тому, что мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу, мне кажется в ней все так напыщенно, неумеренно, невоздержно, что от стыда закрываю вперед обеими руками лицо. О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве! Именье дано в управленье большое, а управитель еще слишком плох и слишком не научен, как привести именье в стройность. Как мне трудно достигнуть той простоты, которая уже при самом рожденье влагается другому в душу и до которой я должен достигать трудными путями всякого рода поражений!
От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне, точно, вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь, потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма. Надобно знать, что вексель этот был послан ко мне против желанья моего, тогда как я уже сделал совсем другое распоряжение из моих денег. Но хозяина, которому принадлежали деньги, не послушали, оттого, может быть, и постигнула такая участь этот вексель. Во всяком случае, преследование по этому делу и особенно всякого рода взыскания следует оставить: тот, кто отважился взять эти деньги, был человек, вероятно, беспорядочный и неимущий, а потому и до сих пор остался таким же, то есть беспорядочным и неимущим, а потом придется, может быть, содрать последнюю рубашку (если не самую кожу) или с его жены, или детей, или родственников, от чего боже сохрани, а потому дело это оставить. Разузнать можно, но, Христа ради, никаких взысканий ни в каком случае! Что же касается до меня самого, то мне теперь деньги не нужны. Деньги теперь ползут ко мне со всех сторон, именно потому, что я перестал о них заботиться. Безденежье приходит только тогда, когда человек хлопочет о деньгах. Но обнимаю всех вас, мою до<рог>ую прекрасную семью, <становящуюся> с каждым днем ближайшею моему сердцу. Бог да хранит вас всех. Всего..
Гоголь.
Теперь я должен буду для укрепления нерв моих проездиться в Швальбах и потом на морское купанье, а после этого в Неаполь и оттуда на Восток. Стало быть, в июне, если будет бог так милостив, мы встретимся во Франкфурте. Видно, недаром было написано в записной книжке, данной мне во Франкфурте на дорогу[[424 - Подарок Жуковского в день отъезда Гоголя из Франкфурта 8 (20) октября 1846 г.]]: «до свиданья» и вслед за этим прибавлено: «Франкфурт».
Жуковский В. А. – Гоголю, 20 февраля (4 марта) – 12 (24) марта 1847
20 февраля (4 марта) – 12 (24) марта 1847 г. Франкфурт-на-Майне [[425 - М, 1853, № 2, с. 93–94 (не полностью). Печатается по автографу (ГПБ). Позднее это письмо было переработано в статью под названием «О смерти». Впервые – в кн.: Жуковский В. А. Сочинения, т. II. СПб., 1857, с. 123–127.]]
20 февр. / 4 марта 1847.
В последнем моем письме к тебе, мой милый Гоголек, я обещался снова начать чтение твоей книги с карандашом в руках, дабы, делая на нее замечания всякого рода, сообщать тебе через письма все то, что будет приходить мне в голову. Эта работа по моему вкусу; не надобно делать никакого плана; не надобно ни брать мерки, ни делать выкройки, а просто нашивать свои заплатки на чужое платье. Хотя платье не изношенное, не в дырах и не требует заплаток, но тот, кому оно достанется, может носить платье, споров заплатки, которые также могут ему на что-нибудь пригодиться, потому что все из одинаковой свежей материи. Но до сих пор я не мог приняться за перечитывание книги; причину этого скажет тебе прилагаемый здесь печатный листок[[426 - Траурное объявление о смерти Мии Рейтерн.]]. Бог посетил наше семейство тяжким испытанием. Вот уже десять дней, как наша милая сестра Мия кончила жизнь свою; ее болезнь (typhus cerebralis) продолжалась не более одиннадцати дней; она не много страдала; последние дни были спокойным, постепенным умиранием, в котором она почти до конца сохранила память; с самого начала болезни было в ней жадное желание причаститься с<вятых> тайн, и, когда это желание исполнилось, совершенный, светлый покой поселился в ее душе – этот покой выражался и на ее лице всякий раз, когда душа брала верх над слабеющим телом. Утром 22 февр<аля> отец и сестра[[427 - Е. Р. Рейтерн и Е. А. Жуковская.]] стояли перед нею; глаза ее были закрыты, она, казалось, спала; вдруг тихо вздохнула; отец ищет ее пульс, он остановился; кладет руку на сердце, оно не бьется; смотрит ей в лицо, его покрывает тусклая бледность, и только на лбу остается какой-то живой свет. «Что это?» – спрашивает он у женщины, ходившей за больною. Та отвечает: «Это смерть». Но эта первая минута смерти принадлежала еще душе. Покинув тело, она оставила на лице, побледневшем как мрамор, выражение того, что она была в минуту своего расставания с телом: выражение покоя, смирения и как будто радости, потому что был приметен след улыбки, трогательно приятной. Таков был прекрасный конец нашей Мии, которая провела двадцать шесть лет под кровлей семейной, не испытав никакой тревоги житейской; все было чисто, прекрасно, девственно в этой безвременной (говоря человечески) смерти. Она оставила пережившим одно умилительное о себе воспоминание. Смерть только для живых есть зло, – сказал Карамзин; с одной стороны, это правда, с другой – заблуждение. Не мертвые нас теряют; мы, живые, теряем мертвых; и чем более к ним было любви, тем горестнее их утрата; чем теснее были с ними узы, тем болезненнее разрыв их. И в этом действительное зло смерти. Оно исключительно для одних живых; можно даже сказать, что отнятое у оставшихся все отдается тем, которые их оставили. Для первых видение земное исчезло, место, так мило занятое, опустело, глаза не видят, ухо не слышит, самое (для них ощутительное) сообщение душ прекратилось. Для последних все это сделалось непосредственнее, свободнее, теснее: душа с своими духовными сокровищами, с воспоминанием о лучшем земном, ей одной принадлежащем, ей, так сказать, укрепленном смертью и слившемся с ее бытием духовным, с своею любовию, с своею верою переходит в мир без времени и без пространства; она слышит без слуха, видит без очей, она соприсутственна всегда и везде душе, ею любимой, не отлученная от нее никакою далью, тогда как нам, живущим, язык ее недоступен, и то, что стало более нашим, кажется нам утраченным навеки. Но в то же время смерть есть великое благо и для живущих, и тем большее благо, чем милее нам был наш умерший. Это глубоко понимает разум, освещенный лучом христианства. Но какую великую силу приобретает убеждение разума, когда оно становится опытом сердца. Пока мы сами не испытали еще никакой болезненной утраты, мы веруем, слушая голос Спасителя, исходящий к нам из Евангелия, и нашей мысли представляется жизнь человеческая в своем истинном великом значении. Но когда над нами самими совершается удар свыше, как иначе делается тогда внятен сердцу этот евангельский голос; уже не в листах книги мы ищем тогда Спасителя нашего. Он сам нас находит, он сам становится к нам лицом к лицу; ценою бедствия покупаем мы лицезрение бога. Велика ли эта цена? И что она перед тем сокровищем, которое мы за нее приобретаем? Все, что я здесь тебе пишу, я прежде думал; теперь я это видел, и опыт близкого мне сердца сделался моим собственным опытом. Я видел отца, отдавшего в руки бога любимую дочь свою, я слышал отца, прославляющего не словами, а радостию сердца волю Всевышнего, взявшую дитя его, только что расцветшее для жизни. Здесь всего простее повторить слова, сказанные им своей семье, в первую минуту утраты: «Великое дело божие над нами совершилось; мы видели своими глазами, как наша милая дочь перешла к небесному отцу своему; она принесла ему чистую, ничем житейским не потревоженную и с ним примиренную душу. И теперь мы знаем, без всякого земного сомнения знаем, что ей дано все то, чего бы мы никакою силою нашей любви не могли ни дать, ни сохранить ей в жизни. Мы можем только благодарить и славить. После такого ясного узнания милости неизреченной не позволим себе никогда ни пожалеть, что она от нас взята, ни пожелать, чтобы она была с нами. Будем смирны; и чтобы наше горе никогда не пересилило нашей теперешней радости! За себя будем только покорны; за нее благодарность и радость». Таким языком говорит христианство о величайшем земном несчастии, которое без него раздавило бы душу и которое с ним становится для нас преображением человеческого мрака в утешительный свет божий.
12 (24) марта.
Выставленное здесь число скажет тебе, что это письмо, начатое 4 марта, целые двадцать дней пролежало на письменном столе моем; мне некогда было приняться за его окончание; не хотелось послать его неоконченным. Наконец я должен был решиться на последнее, прибавив: продолжение впредь. Этим отрывком, который в следующем письме составит целое, начинается моя с тобой переписка по поводу избранных мест из твоих писем. Что буду тебе писать, еще теперь не знаю, да и знать этого мне не нужно; буду писать, что напишется, смотря по тому, что, и как, и когда взойдет на мысль при чтении книги. Я между тем получил твое письмо, в котором ты меня уведомляешь о намерении посетить Швальбах и Остенде прежде Иерусалима. Это благоразумно. А было неблагоразумно оставаться в Неаполе в такое время, когда пребывание в нем всегда вредно для нерв. Теперь надобно его оставить и перебраться скорее к нам на север. И всего бы лучше прямо в мое соседство. Случившееся насчастие в нашем семействе, вероятно, произведет изменения и в моих планах: жду на это разрешения из Петербурга; что велит государь, то и будет. Но из этого следует, что мы могли бы еще пожить если не в одном доме, то в одном месте, и мои критико-философические письма шли бы не через почту, а передавались бы из рук в руки. Я еще не мог приняться за свою главную работу, за «Одиссею»; надобно размахаться, прежде нежели начать снова полет. И я размахался тем, что кончил «Рустема и Зораба», которого (в этом я уверен) ты прочтешь с удовольствием, ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не Древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока[[428 - Поэма «Рустем и Зораб» – свободное переложение перевода Ф. Рюккерта «Roostem und Suhrab, eine Heldengeschichte in zw?lf B?chern». Erlangen, 1838 («Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати книгах»), который, в свою очередь, является переложением одного эпизода поэмы Фирдоуси (ок. 940–1020 или 1030) «Шах-наме».]]. Теперь переписываю и в то же время поправляю поэму. Мне весело будет слушать, как ты опять будешь читать ее вслух предо мною для новых поправок. Прости. Убриль уведомил меня, что ты получил вексель; смешно, право, что мне ты ничего об этом не пишешь, тогда как знаешь, что вексель был доставлен мне и что я обязан об нем дать отчет тем, кто его мне доставили. Что за расстегайство именно в таких делах, в которых необходима точность математическая. Жена и все мои родные тебе дружески кланяются.
Ж.
Гоголь – Жуковскому В. А., 22 февраля (6 марта) 1847
22 февраля (6 марта) 1847 г. Неаполь [[429 - Сочинения и письма, т. 6, с. 350–351; Акад., XIII, № 129.]]
Неаполь. 6 марта.
Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге моей, получено мною только третьего дни, то есть четвертого марта. Появленье книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед. При всем том книга моя полезна. В одну неделю исчезнули все экземпляры ее[[430 - Видимо, Гоголь основывался на не вполне достоверной информации: книга расходилась медленно.]] (хотя печатано было два завода). Все дотоле бывшие вопросы в литературе вдруг заменились другими, и все предметы разговоров умных людей наших обществ заменились другими предметами. Я ожидаю, что после моей книги явится несколько умных и дельных сочинений, потому что в моей книге есть именно что-то, зарывающее на умственную деятельность человека. Несмотря на то, что сама по себе она не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения. Но, признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и нужным у нас явлением, потому что после моей книги все как-то напряжено, все более или менее, как противники, так и защитники, находятся в положении неспокойном, а многие недоумевают просто, куды пристать, не умея согласить многих, по-видимому, противоположных вещей от той резкости, с какою они выражены. Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что возмнил о себе, будто мое школьное воспитанье уже кончилось и могу я стать наравне с тобою. Право, есть во мне что-то хлестаковское. А ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую руку свою, которой посылаю заочный поцелуй. Прощайте, мои добрые! Бог да хранит вас всех целых и невредимых!
Твой Г.
Назад тому дня два я отправил уже одно письмо к тебе, занумерованное 4-м мартом, в котором содержится мой маршрут. Ночи мои все по-прежнему без сна; я слаб телом, но духом, слава богу, довольно свеж.
Гоголь – Жуковскому В. А., 5(17) апреля 1847
5 (17) апреля 1847 г. Неаполь [[431 - Сочинения и письма, т. 6, с. 369–370 (с пропусками); Акад., XIII, № 150.]]
Неаполь. 17 апреля.
Приятное и грустное письмо твое, бесценный друг мой, я получил. Но прежде всего поговорим о моей неаккуратности. Право, я не так неаккуратен сам, сколько неаккуратны обстоятельства и вокруг меня ворочающиеся происшествия. Я, не медля нимало, вслед за письмом к Убрилю[[432 - Письмо к П. Я. Убри (Акад., XIII, № 131).]] написал другое к тебе[[433 - Письмо к Жуковскому от 28 февраля (12 марта) 1847 г. (Акад., XIII, № 134).]], с обстоятельным уведомлением о векселе и с приложением расписки в получении третьей тысячи. Прилагаю, на всякий случай, еще раз расписку, если письмо мое как-нибудь пропало. Но обратимся к сладостно-грустной стороне письма. Разумею высоко-христианский подвиг семейства Рейтернов. О, дай бог многим тем (если не всем), которые тщеславятся православием своим и истиною церкви своей и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель! Я другого ничего не мог придумать в изъявленье моего участия Рейтерну, как послать ему отрывок из Златоуста, который потрудись им изъяснить как-нибудь по-немецки. Выписываю еще, на всякий случай, из Тертуллиана о воскресении тел[[434 - К письму была приложена выписка, озаглавленная «О божественной плоти Иисуса Христа и о нашей (из Тертуллиана)».]]. Мне кажется, истина воскресения тел недостаточно объяснена и признана у лютеран. Статья эта покажется Рейтерну очень усладительной, особенно после прочтения Златоуста. Вот она.
Обнимаю вас всех, милые сердцу моему, и через месяц питаю удовольствие обнять вас лично.
Гоголь – Жуковскому В. А., 29 декабря 1847
29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) Неаполь [[435 - РВ, 1888, № 11, с. 64–69; Акад., XIV, № 1.]]
1848. Генварь 10 / 1847. Декабр<ь> 29. Неаполь.
Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать – и непостижимая неохота удерживает. Перед мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи – здесь[[436 - По содержанию это письмо примыкает к «Авторской исповеди».]]. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.
Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что прежде, чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать?), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения – вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлен<ие>. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки,– а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы – и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем[[437 - Имеется в виду Христос.]], который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе полное познанье души человеческой, божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайсь прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить на место его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движенье негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!
29 генв. / 10 февр.
P. S. Я хотел вчера послать это письмо и вексель; но Убриль советовал мне, чтобы избавить вас от хлопот, через Родшильда снестись с гамбургским банкиром, на которого вексель адресован, и взять от него для вас свидетельство, что по векселю (prima) не уплачено. Без этого свидетельства неаполитанский банкир не выдаст вам денег; он от себя пошлет справку в Неаполь, и это протянется долее. Убриль сам взялся хлопотать об этом деле; когда ему вексель будет возвращен, то он перешлет его к нашему министру в Неаполе Потоцкому для доставления вам, а вы на этот счет его предуведомите. А меня все-таки известите о получении сего письма, дабы я знал, что вы о прибытии векселя предуведомлены. И от меня пошлется к вам в нынешнем месяце третья тысяча; о получении двух первых вы никакого не дали мне письменного документа; а для порядка это было бы не лишнее, понеже эти деньги даны великим князем, а я обязан дать отчет в уплате их если не ему самому, то его конторе. Прощайте.
Жуковский В. А. – Гоголю, 6(18) февраля 1847
6 (18) февраля 1847 г. Франкфурт-на-Майне [[413 - М, 1853, № 2, с. 105 (с пропусками). Печатается по автографу (ГПБ).]]
6/18 февраля 1847.
Мой милый Гоголек, коротенькое письмецо твое, со вложением выписки из письма Шевырева, я получил – благодарю. Жаль для нас, что тот Языков, который теперь разовьется из души, освобожденной от земного, не перед нами совершит свое развитие и что это явление отнято у земли. Ему, во всяком случае, лучше, легче и радостнее, нежели нам. Но я не намерен теперь писать много. Хочу только сказать, что твоя книга[[414 - «Выбранные места из переписки с друзьями».]] теперь в моих руках, что я уже ее всю прочитал или почти всю, то есть кроме двух последних статей, уже мне известных, что я в ней нашел два письма ко мне[[415 - «О лиризме наших поэтов» и «Просвещение».]], которые сделали большой крюк в Петербург, дабы из типографии департамента внешней торговли дойти до меня в печатном образе; что я все это прочитал с жадностью, часто с живым удовольствием, часто и с живою досадою на автора, который (вопреки своему прекрасному рассуждению о том, что такое слово[[416 - Имеется в виду глава «О том, что такое слово».]]) сам согрешил против слова, позволив некоторым местам из своей книги (от спеха выдать ее в свет) явиться в таком неопрятном виде, что, наконец, эта книга должна произвести и произведет всеобщее сильное и благотворное действие, что я намерен ее перечитать медленно в другой раз и что по мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей, что эта переписка может также составить книгу[[417 - Этот план был осуществлен лишь отчасти. В конце 1847 – начале 1848 г. Жуковский написал в форме писем к Гоголю статьи «О смерти», «О молитве», «О поэте и современном его значении».]], которая, если подлинно будет в ней что-нибудь достойное общего внимания, может выйти вслед за первою и вместе с нею пробудить в головах русских также несколько добрых мыслей. Итак, Гоголек, жди от меня длинных писем; я дам волю перу своему и наперед не делаю никакого плана – план был бы неуместен и мне бы даже повредил. Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей; мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра, – это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки (то есть нападки любви к тебе и к добру, которое мы оба любим), но эти нападки будут более на форму, нежели на содержание. Горе и досада берет, что ты так поспешил. И на что была нужна эта поспешность, понять не могу. Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мною во Франкфурте, мы бы все вместе пережевали и книга бы была избавлена от многих пятен литературных и типографических, которых теперь с нее не снимешь. И мне бы ты был полезен, ибо все это время было бы для меня время испытания; оно еще и теперь почти так же круто, как было, в некотором отношении еще круче: у Рейтерна большая часть дома больна; он сам до сих пор все страдал разным образом; теперь больны нервическою горячкою Миа, Жатто[[418 - Сестра и брат жены Жуковского.]] и девка в доме, а женина болезнь усиливается беспокойством о сестре и брате; болезнь же ее ты знаешь на себе – но довольно. Прости.
Твой Жуковский.
Прошу написать мне, долго ли пробудешь ты в Неаполе; куда и когда отправишься.
Жуковский В. А. – Гоголю, 8(20) февраля 1847
8 (20) февраля 1847 г. Франкфурт-на-Майне [[419 - Отчет… за 1887 г., с. 55–57 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).]]
Странные дела происходят на земле, любезный Гоголек. В генваре 1845 года послан ко мне вексель на ваше имя – я его не получал; а только с генваря 1847 спрашивают у меня: получил ли я этот вексель? Следовательно, в течение ровно двух лет никто не позаботился узнать, что сделалось с этим векселем. Хорош ты, Гоголек. А даешь прекрасные советы экономии дамам и эти советы еще печатаешь для пользы всей России[[420 - Намек на «Выбранные места…» (статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», а также «Женщина в свете», «О помощи бедным»).]]. Хорошо, что Плетневу вздумалось сделать проруху и послать вексель secunda ко мне во Франкфурт, а не прямо к тебе в Неаполь. Там бы тебе по этому векселю не дали денег, ибо нужно бы было при нем представить свидетельство, что по векселю prima не было уплаты. Теперь это дело решено; из Гамбурга пришло уведомление, что prima не уплачен (куда он девался, бог ведает). Франкфуртский Родшильд напишет завтра к неаполитанскому Родшильду, чтобы по векселю сделать уплату, как скоро ты с ним явишься. Ему же дано поручение выдать тебе и от меня 1000 рублей ассигнациями, в принятии которых ты должен дать ему расписку, дабы, по предъявлении сей расписки мне, я мог заплатить здешнему Родшильду деньги. Вексель же твой secunda для большей верности послан Убрилем к нашему посланнику Потоцкому, к которому прошу немедля явиться и взять вексель, а меня уведомить об его получении. Из великокняжеских же денег теперь выдано мною тебе 3000 рублей, остается еще на мне одна тысяча, которая в будущем году в феврале месяце к тебе пошлется… но куда? Итак:
1) по получении сего письма ты явишься к Потоцкому, он выдаст тебе вексель secunda, отправленный к нему Убрилем.
2) С этим векселем secunda явишься в контору Родшильда и получишь там по нему уплату.
3) У того же Родшильда потребуешь 1000 рублей ассигнациями, которые здешним Родшильдом поручено ему выдать тебе моим именем.
4) Обо всем этом меня уведомишь.
Еще переписки с тобою я не начинал; но скоро начну ее.
Прощай. Обнимаю сердечно.
Жуковский.
8/20 февраля 1847.
Гоголь – Жуковскому В. А., 20 февраля (4 марта) 1847
20 февраля (4 марта) 1847 г. Неаполь [[421 - РС, 1895, № 9, с. 213–215; Акад., XIII, № 123.]]
Оба письма (одно от 4-го февраля и другое от 10-го) мною получены одно за другим, хотя они шли довольно долго. Еще не получая их, я отправил также два письма, одно за другим. В одном была вложена выписка из письма Шевырева о кончине Языкова; в другом извещение о выпуске в свет моей книги (в изуродованном виде). То и другое было равно скорбно в двух различных отношениях. Но велик бог, приуготовляющий заблаговременно нашу душу к перенесению утрат. О! да будет он с нами, да совершается все по его святой воле, но да не оставляет он нас и да пребудет с нами в часы утрат наших! Мне было также скорбно слышать о недугах и страданьях нервических Елизаветы Алексеевны[[422 - Жены Жуковского.]]. Но я верю милосердию божиему, верю, что это совершается для чего-то во благо души. И душа ее после этих недугов, которые пройдут, воссияет, убранная новыми драгоценными убранствами.
Я получил на днях письмо от Смирновой[[423 - Письмо от 11 января 1847 г. (РС, 1890, № 8, с. 282–284).]]. Она теперь оправилась от своих нервических страданий, которые были ужасны и, как сама она говорит, отняли у ней все силы и самый ум. Теперь она не знает, как благодарить бога за это время и за сокровища, которые оно принесло к ней в душу. Она говорит правду: в словах самого письма ее отражается какая-то полнота разума и твердое, несокрушимое упование. Скажу и о себе: мое здоровье так же в это время расстроилось (ночи мои еще до сих пор без сна). Сверх всего этого, сверх самого удаленья от нас в лучшую страну Языкова, который так любил меня (два раза всякий месяц писал он ко мне и, несмотря на все свои недуги, был исправней всех моих корреспондентов), сверх всего этого мне случилося получить всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей от людей, разумеется, не знающих души моей. Но как все это было нужно! Как все это было нужно! Я и подумать не мог, как много во мне еще осталось гордости, самонадеянности, самолюбия, самонадменности и высокомерия. Да будет благословен бог, раскрывающий перед нами нашу душу. Мне кажется, как будто после всего этого я стал теперь проще и как будто ровнее: сужу по тому, что мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу, мне кажется в ней все так напыщенно, неумеренно, невоздержно, что от стыда закрываю вперед обеими руками лицо. О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве! Именье дано в управленье большое, а управитель еще слишком плох и слишком не научен, как привести именье в стройность. Как мне трудно достигнуть той простоты, которая уже при самом рожденье влагается другому в душу и до которой я должен достигать трудными путями всякого рода поражений!
От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне, точно, вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь, потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма. Надобно знать, что вексель этот был послан ко мне против желанья моего, тогда как я уже сделал совсем другое распоряжение из моих денег. Но хозяина, которому принадлежали деньги, не послушали, оттого, может быть, и постигнула такая участь этот вексель. Во всяком случае, преследование по этому делу и особенно всякого рода взыскания следует оставить: тот, кто отважился взять эти деньги, был человек, вероятно, беспорядочный и неимущий, а потому и до сих пор остался таким же, то есть беспорядочным и неимущим, а потом придется, может быть, содрать последнюю рубашку (если не самую кожу) или с его жены, или детей, или родственников, от чего боже сохрани, а потому дело это оставить. Разузнать можно, но, Христа ради, никаких взысканий ни в каком случае! Что же касается до меня самого, то мне теперь деньги не нужны. Деньги теперь ползут ко мне со всех сторон, именно потому, что я перестал о них заботиться. Безденежье приходит только тогда, когда человек хлопочет о деньгах. Но обнимаю всех вас, мою до<рог>ую прекрасную семью, <становящуюся> с каждым днем ближайшею моему сердцу. Бог да хранит вас всех. Всего..
Гоголь.
Теперь я должен буду для укрепления нерв моих проездиться в Швальбах и потом на морское купанье, а после этого в Неаполь и оттуда на Восток. Стало быть, в июне, если будет бог так милостив, мы встретимся во Франкфурте. Видно, недаром было написано в записной книжке, данной мне во Франкфурте на дорогу[[424 - Подарок Жуковского в день отъезда Гоголя из Франкфурта 8 (20) октября 1846 г.]]: «до свиданья» и вслед за этим прибавлено: «Франкфурт».
Жуковский В. А. – Гоголю, 20 февраля (4 марта) – 12 (24) марта 1847
20 февраля (4 марта) – 12 (24) марта 1847 г. Франкфурт-на-Майне [[425 - М, 1853, № 2, с. 93–94 (не полностью). Печатается по автографу (ГПБ). Позднее это письмо было переработано в статью под названием «О смерти». Впервые – в кн.: Жуковский В. А. Сочинения, т. II. СПб., 1857, с. 123–127.]]
20 февр. / 4 марта 1847.
В последнем моем письме к тебе, мой милый Гоголек, я обещался снова начать чтение твоей книги с карандашом в руках, дабы, делая на нее замечания всякого рода, сообщать тебе через письма все то, что будет приходить мне в голову. Эта работа по моему вкусу; не надобно делать никакого плана; не надобно ни брать мерки, ни делать выкройки, а просто нашивать свои заплатки на чужое платье. Хотя платье не изношенное, не в дырах и не требует заплаток, но тот, кому оно достанется, может носить платье, споров заплатки, которые также могут ему на что-нибудь пригодиться, потому что все из одинаковой свежей материи. Но до сих пор я не мог приняться за перечитывание книги; причину этого скажет тебе прилагаемый здесь печатный листок[[426 - Траурное объявление о смерти Мии Рейтерн.]]. Бог посетил наше семейство тяжким испытанием. Вот уже десять дней, как наша милая сестра Мия кончила жизнь свою; ее болезнь (typhus cerebralis) продолжалась не более одиннадцати дней; она не много страдала; последние дни были спокойным, постепенным умиранием, в котором она почти до конца сохранила память; с самого начала болезни было в ней жадное желание причаститься с<вятых> тайн, и, когда это желание исполнилось, совершенный, светлый покой поселился в ее душе – этот покой выражался и на ее лице всякий раз, когда душа брала верх над слабеющим телом. Утром 22 февр<аля> отец и сестра[[427 - Е. Р. Рейтерн и Е. А. Жуковская.]] стояли перед нею; глаза ее были закрыты, она, казалось, спала; вдруг тихо вздохнула; отец ищет ее пульс, он остановился; кладет руку на сердце, оно не бьется; смотрит ей в лицо, его покрывает тусклая бледность, и только на лбу остается какой-то живой свет. «Что это?» – спрашивает он у женщины, ходившей за больною. Та отвечает: «Это смерть». Но эта первая минута смерти принадлежала еще душе. Покинув тело, она оставила на лице, побледневшем как мрамор, выражение того, что она была в минуту своего расставания с телом: выражение покоя, смирения и как будто радости, потому что был приметен след улыбки, трогательно приятной. Таков был прекрасный конец нашей Мии, которая провела двадцать шесть лет под кровлей семейной, не испытав никакой тревоги житейской; все было чисто, прекрасно, девственно в этой безвременной (говоря человечески) смерти. Она оставила пережившим одно умилительное о себе воспоминание. Смерть только для живых есть зло, – сказал Карамзин; с одной стороны, это правда, с другой – заблуждение. Не мертвые нас теряют; мы, живые, теряем мертвых; и чем более к ним было любви, тем горестнее их утрата; чем теснее были с ними узы, тем болезненнее разрыв их. И в этом действительное зло смерти. Оно исключительно для одних живых; можно даже сказать, что отнятое у оставшихся все отдается тем, которые их оставили. Для первых видение земное исчезло, место, так мило занятое, опустело, глаза не видят, ухо не слышит, самое (для них ощутительное) сообщение душ прекратилось. Для последних все это сделалось непосредственнее, свободнее, теснее: душа с своими духовными сокровищами, с воспоминанием о лучшем земном, ей одной принадлежащем, ей, так сказать, укрепленном смертью и слившемся с ее бытием духовным, с своею любовию, с своею верою переходит в мир без времени и без пространства; она слышит без слуха, видит без очей, она соприсутственна всегда и везде душе, ею любимой, не отлученная от нее никакою далью, тогда как нам, живущим, язык ее недоступен, и то, что стало более нашим, кажется нам утраченным навеки. Но в то же время смерть есть великое благо и для живущих, и тем большее благо, чем милее нам был наш умерший. Это глубоко понимает разум, освещенный лучом христианства. Но какую великую силу приобретает убеждение разума, когда оно становится опытом сердца. Пока мы сами не испытали еще никакой болезненной утраты, мы веруем, слушая голос Спасителя, исходящий к нам из Евангелия, и нашей мысли представляется жизнь человеческая в своем истинном великом значении. Но когда над нами самими совершается удар свыше, как иначе делается тогда внятен сердцу этот евангельский голос; уже не в листах книги мы ищем тогда Спасителя нашего. Он сам нас находит, он сам становится к нам лицом к лицу; ценою бедствия покупаем мы лицезрение бога. Велика ли эта цена? И что она перед тем сокровищем, которое мы за нее приобретаем? Все, что я здесь тебе пишу, я прежде думал; теперь я это видел, и опыт близкого мне сердца сделался моим собственным опытом. Я видел отца, отдавшего в руки бога любимую дочь свою, я слышал отца, прославляющего не словами, а радостию сердца волю Всевышнего, взявшую дитя его, только что расцветшее для жизни. Здесь всего простее повторить слова, сказанные им своей семье, в первую минуту утраты: «Великое дело божие над нами совершилось; мы видели своими глазами, как наша милая дочь перешла к небесному отцу своему; она принесла ему чистую, ничем житейским не потревоженную и с ним примиренную душу. И теперь мы знаем, без всякого земного сомнения знаем, что ей дано все то, чего бы мы никакою силою нашей любви не могли ни дать, ни сохранить ей в жизни. Мы можем только благодарить и славить. После такого ясного узнания милости неизреченной не позволим себе никогда ни пожалеть, что она от нас взята, ни пожелать, чтобы она была с нами. Будем смирны; и чтобы наше горе никогда не пересилило нашей теперешней радости! За себя будем только покорны; за нее благодарность и радость». Таким языком говорит христианство о величайшем земном несчастии, которое без него раздавило бы душу и которое с ним становится для нас преображением человеческого мрака в утешительный свет божий.
12 (24) марта.
Выставленное здесь число скажет тебе, что это письмо, начатое 4 марта, целые двадцать дней пролежало на письменном столе моем; мне некогда было приняться за его окончание; не хотелось послать его неоконченным. Наконец я должен был решиться на последнее, прибавив: продолжение впредь. Этим отрывком, который в следующем письме составит целое, начинается моя с тобой переписка по поводу избранных мест из твоих писем. Что буду тебе писать, еще теперь не знаю, да и знать этого мне не нужно; буду писать, что напишется, смотря по тому, что, и как, и когда взойдет на мысль при чтении книги. Я между тем получил твое письмо, в котором ты меня уведомляешь о намерении посетить Швальбах и Остенде прежде Иерусалима. Это благоразумно. А было неблагоразумно оставаться в Неаполе в такое время, когда пребывание в нем всегда вредно для нерв. Теперь надобно его оставить и перебраться скорее к нам на север. И всего бы лучше прямо в мое соседство. Случившееся насчастие в нашем семействе, вероятно, произведет изменения и в моих планах: жду на это разрешения из Петербурга; что велит государь, то и будет. Но из этого следует, что мы могли бы еще пожить если не в одном доме, то в одном месте, и мои критико-философические письма шли бы не через почту, а передавались бы из рук в руки. Я еще не мог приняться за свою главную работу, за «Одиссею»; надобно размахаться, прежде нежели начать снова полет. И я размахался тем, что кончил «Рустема и Зораба», которого (в этом я уверен) ты прочтешь с удовольствием, ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не Древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока[[428 - Поэма «Рустем и Зораб» – свободное переложение перевода Ф. Рюккерта «Roostem und Suhrab, eine Heldengeschichte in zw?lf B?chern». Erlangen, 1838 («Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати книгах»), который, в свою очередь, является переложением одного эпизода поэмы Фирдоуси (ок. 940–1020 или 1030) «Шах-наме».]]. Теперь переписываю и в то же время поправляю поэму. Мне весело будет слушать, как ты опять будешь читать ее вслух предо мною для новых поправок. Прости. Убриль уведомил меня, что ты получил вексель; смешно, право, что мне ты ничего об этом не пишешь, тогда как знаешь, что вексель был доставлен мне и что я обязан об нем дать отчет тем, кто его мне доставили. Что за расстегайство именно в таких делах, в которых необходима точность математическая. Жена и все мои родные тебе дружески кланяются.
Ж.
Гоголь – Жуковскому В. А., 22 февраля (6 марта) 1847
22 февраля (6 марта) 1847 г. Неаполь [[429 - Сочинения и письма, т. 6, с. 350–351; Акад., XIII, № 129.]]
Неаполь. 6 марта.
Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге моей, получено мною только третьего дни, то есть четвертого марта. Появленье книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед. При всем том книга моя полезна. В одну неделю исчезнули все экземпляры ее[[430 - Видимо, Гоголь основывался на не вполне достоверной информации: книга расходилась медленно.]] (хотя печатано было два завода). Все дотоле бывшие вопросы в литературе вдруг заменились другими, и все предметы разговоров умных людей наших обществ заменились другими предметами. Я ожидаю, что после моей книги явится несколько умных и дельных сочинений, потому что в моей книге есть именно что-то, зарывающее на умственную деятельность человека. Несмотря на то, что сама по себе она не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения. Но, признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и нужным у нас явлением, потому что после моей книги все как-то напряжено, все более или менее, как противники, так и защитники, находятся в положении неспокойном, а многие недоумевают просто, куды пристать, не умея согласить многих, по-видимому, противоположных вещей от той резкости, с какою они выражены. Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что возмнил о себе, будто мое школьное воспитанье уже кончилось и могу я стать наравне с тобою. Право, есть во мне что-то хлестаковское. А ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую руку свою, которой посылаю заочный поцелуй. Прощайте, мои добрые! Бог да хранит вас всех целых и невредимых!
Твой Г.
Назад тому дня два я отправил уже одно письмо к тебе, занумерованное 4-м мартом, в котором содержится мой маршрут. Ночи мои все по-прежнему без сна; я слаб телом, но духом, слава богу, довольно свеж.
Гоголь – Жуковскому В. А., 5(17) апреля 1847
5 (17) апреля 1847 г. Неаполь [[431 - Сочинения и письма, т. 6, с. 369–370 (с пропусками); Акад., XIII, № 150.]]
Неаполь. 17 апреля.
Приятное и грустное письмо твое, бесценный друг мой, я получил. Но прежде всего поговорим о моей неаккуратности. Право, я не так неаккуратен сам, сколько неаккуратны обстоятельства и вокруг меня ворочающиеся происшествия. Я, не медля нимало, вслед за письмом к Убрилю[[432 - Письмо к П. Я. Убри (Акад., XIII, № 131).]] написал другое к тебе[[433 - Письмо к Жуковскому от 28 февраля (12 марта) 1847 г. (Акад., XIII, № 134).]], с обстоятельным уведомлением о векселе и с приложением расписки в получении третьей тысячи. Прилагаю, на всякий случай, еще раз расписку, если письмо мое как-нибудь пропало. Но обратимся к сладостно-грустной стороне письма. Разумею высоко-христианский подвиг семейства Рейтернов. О, дай бог многим тем (если не всем), которые тщеславятся православием своим и истиною церкви своей и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель! Я другого ничего не мог придумать в изъявленье моего участия Рейтерну, как послать ему отрывок из Златоуста, который потрудись им изъяснить как-нибудь по-немецки. Выписываю еще, на всякий случай, из Тертуллиана о воскресении тел[[434 - К письму была приложена выписка, озаглавленная «О божественной плоти Иисуса Христа и о нашей (из Тертуллиана)».]]. Мне кажется, истина воскресения тел недостаточно объяснена и признана у лютеран. Статья эта покажется Рейтерну очень усладительной, особенно после прочтения Златоуста. Вот она.
Обнимаю вас всех, милые сердцу моему, и через месяц питаю удовольствие обнять вас лично.
Гоголь – Жуковскому В. А., 29 декабря 1847
29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) Неаполь [[435 - РВ, 1888, № 11, с. 64–69; Акад., XIV, № 1.]]
1848. Генварь 10 / 1847. Декабр<ь> 29. Неаполь.
Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать – и непостижимая неохота удерживает. Перед мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи – здесь[[436 - По содержанию это письмо примыкает к «Авторской исповеди».]]. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.
Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что прежде, чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать?), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения – вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлен<ие>. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки,– а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы – и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем[[437 - Имеется в виду Христос.]], который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе полное познанье души человеческой, божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайсь прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить на место его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движенье негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!