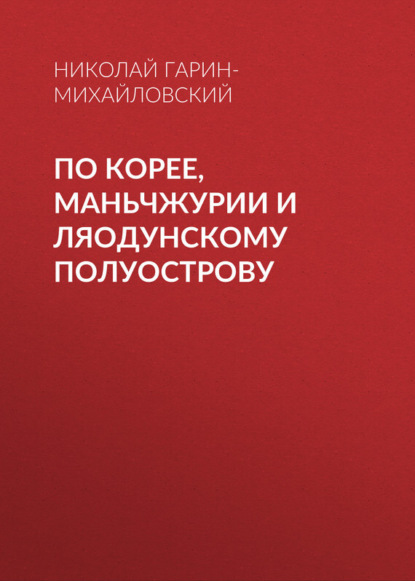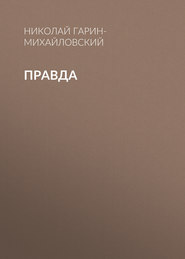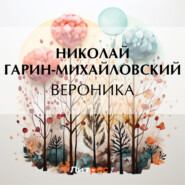По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А тут же, за поворотом, новый перекат с громадными камнями, вода бурлит, кипит и бешено несется у громадных, отвесно навиопих над рекой скал, и кажется, не река уже это, а скалистый берег моря в разгаре шторма, и нет спасенья попавшему сюда кораблю.
Наша «Бабушка» танцует на волнах, скрипит и жалуется на старость, молит о вечном покое, но железный колосс, наш капитан, гигантским рулем с страшной силой загребает воду и заставляет и «Бабушку» и воду повиноваться себе, и извивается шаланда между то спрятавшимися под водой, то торчащими скалами.
Совсем близко подойдет к береговой скале, вот, кажется, подхватило и несет нас, и нет спасенья…
– Шкпрво!
Несется резкий, дикий окрик капитана, и четыре китайца, как мчащиеся собаки, с прижатыми ушами, все стоя, всей силой налегают на весла, и мчится вода, мчимся мы, мчатся все эти из бронзы вылитые статуи, фигуры матросов китайцев.
А как добродушно, радостно, по-детски смеются они, когда опасность миновала, и подмигивают нам.
Это мужественные, сильные люди, и они храбрее собратьев своих – хунхузов. Те действуют ночью и в лесу, прячась за деревьями, эти при свете дня, грудь с грудью, схватываются беспрестанно с опасным и свободным врагом. Враг, которого любят, впрочем, больше друга.
– Там в И-чжоу, – говорят они, – вас повезут по морю на настоящем парусном судне сажен в десять. Там матросы не нам чета, – там всегда над головой смерть.
Бытовая картинка: вверх по реке толпа китайцев матросов тянет шаланду. Их человек двадцать, но издали это какие-то клубочки. Все они изогнулись и пригнулись к реке, упираясь ногами, хватаясь руками за камни почвы. Вся поза их, натянутая, как струна, бечева, говорит о крайнем их напряжении. Так будут они тащиться еще сто верст, делая в день по пять – шесть верст, на каждом перекате выгружая и нагружая снова шаланду.
Не удивительно, что пуд муки после этого стоит 4 рубля, а пуд соли 80 копеек.
Таких матросов хозяева нанимают по 40 долларов в год.
Поднявшись к месту назначения, они отправятся в леса и там будут готовить лес для сплава.
Весной шаланда, нагруженная хлебом, при двух-трех матросах, беспрепятственно спустится по реке, а остальные матросы пойдут на плотах.
И у них есть своя «дубинушка», короткая заунывная. Слышатся сперва повышающиеся, затем спускающиеся с замиранием звуки:
– Ганги! Эйлей-лей!
– Ганги! Эйлей-лей!
Что-то покорное, безнадежно терпеливое. Тяжела жизнь корейца.
С виду, впрочем, мало это заметно, а на расстоянии даже получается отрадное впечатление.
Действительно, приютилась красиво и уютно маленькая фанза; поля около нее. Счастливый кореец, сам хозяин своей земли, не знает никакой круговой поруки, платит за десятину пашни 40 копеек подати да с каждой фанзы 30 копеек, довольствуется своим, обходится без денег, самые ограниченные потребности свои – соль, зеркальце, тесемки, для нарядного платья бумажную материю – выменивает на чумизу, кукурузу, рис, – и счастлив.
Но когда подойдешь поближе, то происходит нечто подобное тому, что мы видим на Пектусане: издали – равнина, а спустишься – миллионы скрытых, как западня, глубочайших оврагов.
Много таких оврагов у корейцев – рабство (в голодные года родители продают своих детей), хунхузы, несправедливое, жаждущее взяток, ищущее только предлога, чтобы схватить провинившегося и начать мотать из него жилы, – его начальство, начиная от ничтожного пудни (староста), уже облеченного очень большими правами (розга, легкая пытка). И это каждого, кто только провинится или подозревается только в преступлении. А предрассудки старины, вяжущие корейца по рукам и ногам!
За своими предками, святыми горами, имеющими способность оплодотворять избранных женщин, за всеми этими драконами, куреями, тиграми, тысяченожками, с переселенными в них человеческими душами, со всеми своими тоннами (предсказателями), бонзами и ворожеями, с убеждением, наконец, что все дело в том, чтобы удачным выбором могилы найти, как клад, свое счастье, и тогда не надо ни образования, ни ума, ни способностей – всем этим, как веревками, опутан кореец уже много тысячелетий, за всем этим ничего он не видит, не слышит и слышать не хочет или не может уже.
Это какое-то состояние вечного детства, вечных сказок, того возраста, когда дети верят еще в сказки, когда ребенок смотрит на каждого и сомневается – кто перед ним: такой же, как он, обыкновенный житель земли или пришлец иного мира.
Надо бежать от злого человека, злой горы, тигра, барса, начальства, господина, надо бояться всех и вся…
И вся прелесть этой первобытной жизни сводится, в сущности, к заячьим ногам.
Но это уже не человек, а заяц.
А возьмите года невзгод: года эпидемий без докторов, голодные года без путей сообщений.
Поистине надо быть свихнувшимся человеком, чтоб в этой первобытной идиллии находить какую бы то ни было прелесть…
А какая грязь, какие насекомые…
Я уже не говорю о положении людей другой расы, привыкших к кое-каким удобствам и совершенно, как теперь мы, лишенных их.
А ужасная проказа: в деревне Ходянби, в пятьсот фанз, семь прокаженных. Они живут вместе с остальными; эти остальные пьют с ними, едят. И так по всей той Корее, которую я прошел.
А сколько калек, уродов, какая смертность!
Спросите в каждой деревне, и везде вам скажут или, что то же количество, что и прежде, народу живет теперь на свете, или убавляется.
Убавление на севере очевидно: брошенные фанзы, деревни, упраздненные города, теперь жалкие деревушки – на каждом шагу.
Один большой оригинал нашего времени, больной недостаточной культурностью, говорит:
– Я еду отдыхать сюда от тяжести нашей культуры.
На вкус и цвет товарищей нет. Оригинал таким и останется, но все человечество не живет жизнью оригиналов.
Ему нужны безопасные, обеспечивающие его жизнь и потребности условия существования, и никто не станет спорить, что где-нибудь в Бельгии они обеспеченнее, чем здесь.
Я по крайней мере, спасенный чудом от диких хунхузов, не буду спорить и думаю, что уничтожить этих хунхузов можно только с помощью общечеловеческой культуры, и я думаю, что пример здешней пятитысячелетней культуры, выработавшей людям маленькие, отупевшие головы и заячьи ноги, – хороший пример.
Оставим все эти вопросы, – они раздражают только.
Заблуждения, как эпидемии, горячечный бред, приходят и уходят. Горячечного не убедишь, а выздоровевшего убеждать не в чем. Да и безобидны эти заблуждения: не переменятся законы жизни от того, что тот или другой желал бы так или иначе повернуть жизнь. Жизнь идет по своим законам, и людьми достаточно прожито, чтобы при желании нельзя было уяснить себе истинный смысл этих законов.
Часа через два после встречи с китайцами бурлаками мы уже сами бурлачили, таща нашу «Бабушку» по каменистому мелкому перекату.
Китайцы, голые, в воде, мы все, захватив веревку, тащились, пригнувшись и напрягаясь, по берегу.
Часа в три протащили сажен сто. Несчастные китайцы посинели, несмотря на весь свой бронзовый цвет, и щелкали зубами, как волки. Чем дальше, тем ниже и мельче река. Так будет еще верст пятьдесят, до впадения большой реки справа.
Все те же горы футов в пятьсот, отдельные, частью покрытые желтой и красной листвой кустарника, виноградника, редкого, никуда не годного леса.
Крайне только редко попадаются обнаженные скалы и по преимуществу у обрывистых берегов.
Тогда вверх уходят каменистые террасы, поддерживаемые точно колоннами; цвет этих скал серовато-розово-красно-темный. Косые лучи солнца просвечивают их, и тогда кажутся они точно своим цветом окрашенные, прозрачные.
Сегодня пришли на ночевку в корейскую деревню Минтоцанкари и в первый раз встретили негостеприимное отношение со стороны одной корейской фанзы.
П. Н. не только не впустил хозяин, но и ругался очень энергично. Его черные глаза с красными белками метали искры, он не говорил, а кричал, темный, черный, взбешенный.
– Что он говорит?