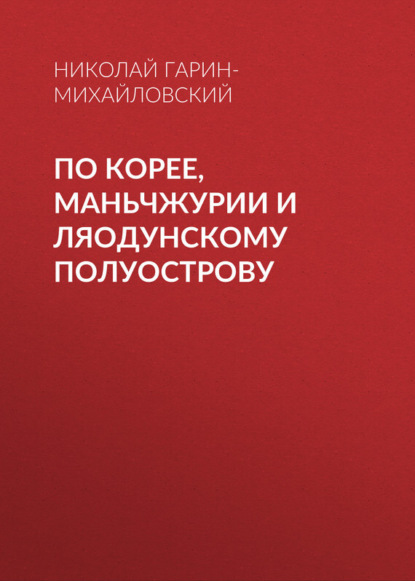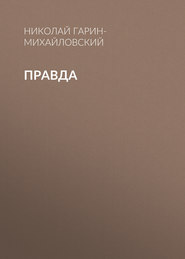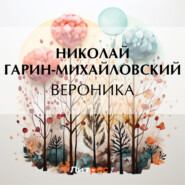По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сегодня мы уже не прошли бы ни на Пектусан, ни сюда – все проходы, перевалы занесены снегом, и дороги нет ни вперед, ни назад… Вот чего и боялся я, но у начальника большое счастье. Это вчерашний дождь там снегом упал.
Да… счастье и большое: угадать так из Петербурга день в день…
Мы спускаемся ближе и ближе к реке. Родное чернолесье. Запах осины, сырость, запах гниющего уже листа и шелест его. Ясная, но уже глубокая осень, щемящая грусть и пустота этого леса. Нет жизни, нет зверя и птицы, все умирает или засыпает долгим сном зимы.
Дорога все хуже и хуже, и В. В. страстно, горячо, но непонятно переводит слова китайца о том, как хороша была та дорога, по которой он повел бы.
Еще ближе к реке, и опять прекрасный лес лучше: много ясеня, в обхват до двух саженей, прекрасная пихта, редкая, но прекрасная лиственница. Иногда гривами лиственница одна, прекрасная, стройная. А какой кедр!
Здесь уже можно сплавлять по реке этот лес громадной стоимости. В сумерки мы подошли к цели нашего путешествия – деревне Шанданьон, населенной почти исключительно корейцами.
С каким чувством удовлетворения увидели мы опять мирные картины вечера в деревне, ометы хлеба, кукурузы, жилье, услышали рев скота.
Жители никогда не видали здесь европейца.
С каким радушием и гостеприимством нас приняли: вот лучшая фанза; есть курица, картофель, чумиза, редька.
Вся деревня, фанз тридцать, разбросана версты на две в узкой долине. Пять-шесть китайских фанз – хозяева той земли, на которой живут корейцы. Корейцы платят им половинный урожай.
– Хунхузы есть?
– Хунхузы ушли на Пектусан, нет хунхузов.
– Обижают хунхузы?
– О!
Это безнадежный, покорный вопль. Хунхузы – хозяева, приходят и требуют всего: птицу, чумизу, теленка, быка, женщин, и всё дают, чтобы сохранить презренную жизнь.
Какое наслаждение быть опять в тепле, раздеться, вытянуться в кровати, переменить белье!
– Так что безопасно от хунхузов?
– Теперь вполне.
– Ну, так сегодня караул корейский: Таани и Сапаги, все остальные ешьте и спать.
И мы уснули, как, кажется, никогда еще не спали.
5 октября
Страшный грохот и треск заставил меня открыть глаза. Ночь темная, что-то сыплется сверху: глиняная штукатурка. Залпы выстрелов?! частые, громкие, новый и новый треск, какой-то злобный, жужжащий, ищущий в кого впиться свист. И опять залпы: то трескучие, то глухие – бум… бум…
Хунхузы?! Где ружье?! Где хунхузы?! В фанзе уже, перерезали всех, и только я почему-то еще жив? Стреляют в бумажные двери, стоя перед нами? Ночь, хоть глаз выколи. Зажечь свечку? Откроешь им все… Откроют и так… Так вот как это все кончается… Что ж, как-нибудь да должно же когда-нибудь кончиться… Поздно, поздно… Теперь одно мужество смерти…
Тихий голос H. E.:
– Вы живы?
– Я ищу свое ружье, нашел… Не зажигайте свечку… Ружье, кинжал с вами?.
– Со мной.
Какой-то шорох.
– Кто это?
– Я, П. Н.
– Где солдаты?
– Здесь.
– Все?
– Беседина нет.
H. E. поймал кого-то за длинные волосы.
– Кто?
Молчание.
– Молчит и только гладит меня по колену, – говорит H. E. – Что-то говорит.
Это Дишандари, оказывается; он говорит, что хозяин фанзы уже убит.
– Где корейцы?
– Убежали в лес.
– Подползайте к двери и сядьте по стенам, – говорю я.
Я сажусь с левой стороны двери, с правой H. E.
Прорвали дырку в бумаге и смотрим.
Залпы не прекращаются, но, очевидно, стреляют сзади, и мы защищены от выстрелов капитальной стеной. Только там, вверху, в соломенной крыше без потолка, по временам какой-то блеск, и точно сыплется что-то оттуда.
– Сколько ж их стреляет?
– Ох, много, – говорит удрученно П. Н., – человек двести.
– Сорок, – поправляет Дишандари, – это та партия, которая уходила к Тяпнэ: у них две пушки, – вот это светлое там в крыше мелькает, – это ядра.
– Который час?
На мгновение я зажег спичку: половина пятого.