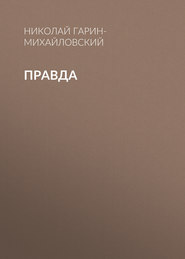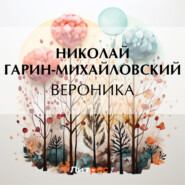По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Студенты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она заглянула в глаза Карташева, подумала и поцеловала их.
– Это чтоб другие тебя не любили… – На мгновение она замерла в его объятиях, опять вырвалась и спросила: – Да откуда ты взялся? Кто ты?
В коридоре послышалось шлепанье туфель.
– Самовар? – переменив тон, как бы спросила Рахиль уже на ходу и скрылась в коридоре.
Карташев слышал какой-то вопрос еврея, обращенный к ней, ее ответ, небрежный, быстрый, на ходу. Затем все смолкло, и только лошади где-то далеко продолжали свою мерную работу челюстями.
Карташев открыл окно, и свежесть осеннего вечера с каким-то ароматным настоем лета ворвалась в комнату. Карташев лег на низкую, мягкую, красиво застланную кровать и, закрыв глаза, забылся в сладкой истоме.
Нигде, ни в каком уголке его сердца не было фальши, напряжения, сомнения ни в отношении Рахили, ни в отношении всей этой оригинальной обстановки.
Он, может быть, и догадывался, что тут не обошлось без Неручева, но какое ему дело? Все шло само собой, и все было так прекрасно, как никогда не было с ним с тех пор, как он на земле.
Рахиль подала самовар, подала булку, еще что-то принесла, еще раз поцеловалась и, шепнув: «Приду нарядная» – скрылась.
В комнату вошел Семен, мотнув утвердительно головой по направлению коридора, и проговорил:
– Хороша!.. Черт, а не девка… – Он оглянулся. – И убранство какое… Деньги б были – уберешь как захочешь, – покорно прибавил он со вздохом. – Выпить охота, – сказал Семен уже другим тоном.
Карташев быстро вынул трехрублевую бумажку и сунул ему в руку.
– Ну, покорно благодарим… Бывало, в холостых наш барин были, и перепадало же нашему брату, – подмигнул Семен. – А теперь: «Зиночка да Зиночка», – а уж этого самого и нет…
Он кивнул пренебрежительно головой, потоптался и вышел.
Фамильярный тон Семена тяжело резал непривычный слух Карташева, но опять вошла Рахиль, счастливая, сияющая; она бросила лукавый взгляд на него и стала рыться в комоде.
У Карташева сразу просветлело на душе, он хотел было подойти и обнять ее, но, заметив ее протест, удержался. Забрав какие-то вещи, она еще раз оглянулась и скрылась.
Время томительно и медленно тянулось в холодной тишине темной звездной ночи. Потемнела площадь, все местечко; где-то далеко-далеко в поле, как свечка, горел огонек костра. Громко стучит сердце. Сонная муха жужжит и бьется где-то над головой. Изредка звякнет повод сонной лошади, и опять все стихнет. Тихо, но в то же время и шум какой-то, точно беззвучно где-то ходят вблизи…
Дверь скрипнула, и легкая, светлая тень скользнула в комнату. Карташев чиркнул спичкой и зажег свечу. Нарядная, в дорогом восточном костюме, стояла перед ним Рахиль. Теперь ее манеры, поза, стройная фигура, непринужденный взгляд – все еще сильнее говорило о том, что это не простая еврейка.
Он бросился к ней и покрыл ее лицо поцелуями. Она ловила его поцелуи и шептала упрямо, настойчиво:
– А если я задушу тебя?
– Души…
– А завтра ты на меня и смотреть не захочешь?..
– Убей тогда.
– Не-ет! – рассмеялась она. – Завтра ты будешь любить меня больше…
– Да, да… – страстно шептал Карташев.
– Ты уедешь завтра!..
– Мы уедем вместе…
Глаза ее сверкнули счастьем, раскрылись и сожгли Карташева. Она нежно водила руками по его волосам, то гладила их, то брала в обе руки его лицо и старалась разглядеть его глаза.
– Потуши свечку…
Время летело. Полосы света тянулись по далеким крышам, осветилась часть неба, обрисовалась громадная, холодная тень корчмы; взошла луна.
– Скоро будет светло, как днем, – проговорила Рахиль, – а потом и день будет: ты уедешь…
Карташев, пьяный от любви, сонный уже, говорил:
– Мы вместе уедем… Теперь ты моя… Ты не жалеешь?
– Зачем жалеть? Хочешь, в степь пойдем?
Через окно они вышли на площадь и, обогнув дом, пошли в степь навстречу поднимавшейся луне.
То была пьяная луна, пьяная ночь, пьяная ароматная степь.
На душистом сене они сидели обнявшись, и Рахиль дремала на плече Карташева. Он тоже дремал, чувствуя в то же время ее всю, чувствуя аромат и жуткую прохладу безмолвной лунной ночи…
– Скоро уж день! – грустно напомнила Рахиль.
Карташев спохватился, проснулся весь и начал страстно целовать ее. Рахиль отвечала нехотя, но было что-то, что говорило, что она хочет, чтобы ее целовал этот откуда-то взявшийся юноша, целовал сильно и страстно. И опять опьяненные, они забыли все на свете.
Ушла далеко в небо луна и, увидав вдруг на горизонте бледную розовую полоску, точно растерявшись в своей высоте, сразу потеряла весь свой волшебный блеск.
Еще тише, еще ароматнее и свежее стало кругом. Краснеет полоска, и точно сильнее темнеет округа.
Тяжело вставать с душистого сена, тяжело терять последние мгновения и страшно дольше оставаться вдвоем: вот-вот проснутся.
Испуганная, нежная, смущенная, Рахиль смотрела и смотрела в глаза Карташева. Куда девался ее задор, хотя все так же прекрасна она. Карташев хочет насмотреться на нее, но сон сильнее его, и не одна, а две уже Рахили перед ним, и обе такие же красивые, нежные…
– Спишь совсем…
Нежный упрек Рахили ласково проникает в его сердце, он опять обнимает ее, но она тоскливо, чужим уж голосом говорит:
– Пора…
Еще не взошло солнце, не рассвело как следует, а уже звякнул колокольчик и разбудил мертвую тишину сарая. Еще немного, и зазвенел колокольчик по площади, по сонным улицам местечка, потонул и замер в неподвижной степной дали.
Мягко и плавно катится по дороге легкий экипаж. Что-то мучит Карташева, какая-то грусть закрадывается в сердце. Думает и думает он, что за человек Рахиль, а сон сильнее охватывает, легкий ветерок гладит его лицо и волосы. Качается его голова из стороны в сторону. Слышится ласковый, певучий голосок Рахили, сидит он с ней, она гладит его волосы и напевает ему какие-то ласковые, нежные песни.
«Рахиль», – проносится где-то, несется дальше, звенит под дугой, разливается и охватывает его непередаваемой негой чудного, как сон, воспоминания.
Вот и станция. Семен осадил лошадей. Поезд подходит. Спит Карташев.
– Это чтоб другие тебя не любили… – На мгновение она замерла в его объятиях, опять вырвалась и спросила: – Да откуда ты взялся? Кто ты?
В коридоре послышалось шлепанье туфель.
– Самовар? – переменив тон, как бы спросила Рахиль уже на ходу и скрылась в коридоре.
Карташев слышал какой-то вопрос еврея, обращенный к ней, ее ответ, небрежный, быстрый, на ходу. Затем все смолкло, и только лошади где-то далеко продолжали свою мерную работу челюстями.
Карташев открыл окно, и свежесть осеннего вечера с каким-то ароматным настоем лета ворвалась в комнату. Карташев лег на низкую, мягкую, красиво застланную кровать и, закрыв глаза, забылся в сладкой истоме.
Нигде, ни в каком уголке его сердца не было фальши, напряжения, сомнения ни в отношении Рахили, ни в отношении всей этой оригинальной обстановки.
Он, может быть, и догадывался, что тут не обошлось без Неручева, но какое ему дело? Все шло само собой, и все было так прекрасно, как никогда не было с ним с тех пор, как он на земле.
Рахиль подала самовар, подала булку, еще что-то принесла, еще раз поцеловалась и, шепнув: «Приду нарядная» – скрылась.
В комнату вошел Семен, мотнув утвердительно головой по направлению коридора, и проговорил:
– Хороша!.. Черт, а не девка… – Он оглянулся. – И убранство какое… Деньги б были – уберешь как захочешь, – покорно прибавил он со вздохом. – Выпить охота, – сказал Семен уже другим тоном.
Карташев быстро вынул трехрублевую бумажку и сунул ему в руку.
– Ну, покорно благодарим… Бывало, в холостых наш барин были, и перепадало же нашему брату, – подмигнул Семен. – А теперь: «Зиночка да Зиночка», – а уж этого самого и нет…
Он кивнул пренебрежительно головой, потоптался и вышел.
Фамильярный тон Семена тяжело резал непривычный слух Карташева, но опять вошла Рахиль, счастливая, сияющая; она бросила лукавый взгляд на него и стала рыться в комоде.
У Карташева сразу просветлело на душе, он хотел было подойти и обнять ее, но, заметив ее протест, удержался. Забрав какие-то вещи, она еще раз оглянулась и скрылась.
Время томительно и медленно тянулось в холодной тишине темной звездной ночи. Потемнела площадь, все местечко; где-то далеко-далеко в поле, как свечка, горел огонек костра. Громко стучит сердце. Сонная муха жужжит и бьется где-то над головой. Изредка звякнет повод сонной лошади, и опять все стихнет. Тихо, но в то же время и шум какой-то, точно беззвучно где-то ходят вблизи…
Дверь скрипнула, и легкая, светлая тень скользнула в комнату. Карташев чиркнул спичкой и зажег свечу. Нарядная, в дорогом восточном костюме, стояла перед ним Рахиль. Теперь ее манеры, поза, стройная фигура, непринужденный взгляд – все еще сильнее говорило о том, что это не простая еврейка.
Он бросился к ней и покрыл ее лицо поцелуями. Она ловила его поцелуи и шептала упрямо, настойчиво:
– А если я задушу тебя?
– Души…
– А завтра ты на меня и смотреть не захочешь?..
– Убей тогда.
– Не-ет! – рассмеялась она. – Завтра ты будешь любить меня больше…
– Да, да… – страстно шептал Карташев.
– Ты уедешь завтра!..
– Мы уедем вместе…
Глаза ее сверкнули счастьем, раскрылись и сожгли Карташева. Она нежно водила руками по его волосам, то гладила их, то брала в обе руки его лицо и старалась разглядеть его глаза.
– Потуши свечку…
Время летело. Полосы света тянулись по далеким крышам, осветилась часть неба, обрисовалась громадная, холодная тень корчмы; взошла луна.
– Скоро будет светло, как днем, – проговорила Рахиль, – а потом и день будет: ты уедешь…
Карташев, пьяный от любви, сонный уже, говорил:
– Мы вместе уедем… Теперь ты моя… Ты не жалеешь?
– Зачем жалеть? Хочешь, в степь пойдем?
Через окно они вышли на площадь и, обогнув дом, пошли в степь навстречу поднимавшейся луне.
То была пьяная луна, пьяная ночь, пьяная ароматная степь.
На душистом сене они сидели обнявшись, и Рахиль дремала на плече Карташева. Он тоже дремал, чувствуя в то же время ее всю, чувствуя аромат и жуткую прохладу безмолвной лунной ночи…
– Скоро уж день! – грустно напомнила Рахиль.
Карташев спохватился, проснулся весь и начал страстно целовать ее. Рахиль отвечала нехотя, но было что-то, что говорило, что она хочет, чтобы ее целовал этот откуда-то взявшийся юноша, целовал сильно и страстно. И опять опьяненные, они забыли все на свете.
Ушла далеко в небо луна и, увидав вдруг на горизонте бледную розовую полоску, точно растерявшись в своей высоте, сразу потеряла весь свой волшебный блеск.
Еще тише, еще ароматнее и свежее стало кругом. Краснеет полоска, и точно сильнее темнеет округа.
Тяжело вставать с душистого сена, тяжело терять последние мгновения и страшно дольше оставаться вдвоем: вот-вот проснутся.
Испуганная, нежная, смущенная, Рахиль смотрела и смотрела в глаза Карташева. Куда девался ее задор, хотя все так же прекрасна она. Карташев хочет насмотреться на нее, но сон сильнее его, и не одна, а две уже Рахили перед ним, и обе такие же красивые, нежные…
– Спишь совсем…
Нежный упрек Рахили ласково проникает в его сердце, он опять обнимает ее, но она тоскливо, чужим уж голосом говорит:
– Пора…
Еще не взошло солнце, не рассвело как следует, а уже звякнул колокольчик и разбудил мертвую тишину сарая. Еще немного, и зазвенел колокольчик по площади, по сонным улицам местечка, потонул и замер в неподвижной степной дали.
Мягко и плавно катится по дороге легкий экипаж. Что-то мучит Карташева, какая-то грусть закрадывается в сердце. Думает и думает он, что за человек Рахиль, а сон сильнее охватывает, легкий ветерок гладит его лицо и волосы. Качается его голова из стороны в сторону. Слышится ласковый, певучий голосок Рахили, сидит он с ней, она гладит его волосы и напевает ему какие-то ласковые, нежные песни.
«Рахиль», – проносится где-то, несется дальше, звенит под дугой, разливается и охватывает его непередаваемой негой чудного, как сон, воспоминания.
Вот и станция. Семен осадил лошадей. Поезд подходит. Спит Карташев.