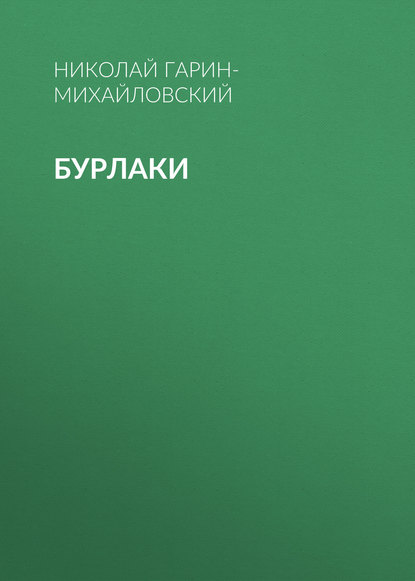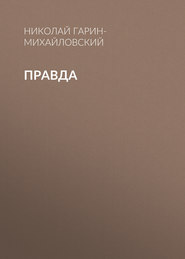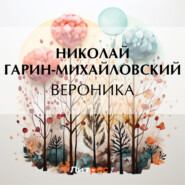По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бурлаки
Год написания книги
1895
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они поцеловались, и, когда барин уехал, Гамид думал, что это ангел Магомета, а не барин.
Гамид знал, что все двести рублей он до последней копейки отработает, но то, что ему без расписки поверил барин, было еще дороже ему, и он готов был теперь за барина и умереть и в огонь и в воду идти. А барин – баловень судьбы, уже мчался дальше, согретый своим добрым порывом. Что ему, молодому, богатому, с блестящей карьерой в будущем, эти двести рублей, которые еще к тому же отработаются?
Он хотел пить кумыс в этом году: Мялмуре будет готовить его, а Гамид будет конюхом.
На другой день к нему в усадьбу приехал Елалдин. Дал ему барин лесу, дал под хлеб две десятины чищобной земли, подарил жеребенка, – и сдался Елалдин.
V
А через две недели Мялмуре уже подавала на террасе в саду первые бутылки кумыса барину. Барин сидел в кресле и читал книгу.
– Ну, давай, – оторвался он от чтения, – твое здоровье!
– Будь здоров, – ответила Мялмуре, смотря в его черные глаза.
– Ты умеешь уж по-русски говорить?
– Я учусь, чтоб с тобой говорить, – рассмеялась Мялмуре.
Она покраснела, а барин выпил налитый кумыс и, щурясь, протянул к ней стакан:
– Еще налей, Мялмуре… вкусный кумыс.
– Пей на здоровье.
Мялмуре наливала, а барин пил, задумчиво смотрел и о чем-то думал.
Каждый день стала носить ему кумыс Мялмуре. А иногда он сам заходил к ней в кумысную, рассматривал и любовался чистотой, окружавшей Мялмуре, любовался и стройной молодой хозяйкой.
Раз в одно свежее, прекрасное утро, когда яркие лучи солнца спорили с густотой тени на террасе, когда вокруг сверкала свежая зелень, а глаза Мялмуре сверкали на барина ярче зелени и солнца, барин сказал, охваченный прелестью и утра и Мялмуре:
– Если б другая такая была, как ты, Мялмуре, я женился бы на ней.
Мялмуре недоверчиво и грустно покачала головой:
– Лучше Мялмуре найдешь… В большом городе много есть… Там как в сказке…
– А ты любишь сказки?
– Люблю, – ответила печально Мялмуре и пошла по аллее. Барин долго смотрел ей вслед.
Смеялась дворня над Гамидом и говорила, что он плохо смотрит за женой. Гамид не верил слухам, но больное ревнивое чувство закрадывалось в его душу. Он еще сильнее полюбил Мялмуре. Она любила обновы, и, когда надевала их, он смотрел на нее, и голова его кружилась, кровь бросалась в голову, и он страстно думал, что не сыщешь на земле другой такой. Когда смеялись над ним, что он волю жене дает, что она как царица какая обращается с ним, – при людях и то никакой покорности ему не показывает, – Гамид думал: пусть делает что хочет, только любит. А что любит она его, Гамид верил этому. Но в душе все-таки решил не служить больше у доброго барина. Что-то в сердце закипало, и совестно ему было как-то теперь смотреть на барина. Отвечает, а сам смотрит в землю, и не кажется ему больше, что его барин ангел Магомета. Боится грешить Гамид, не хочет и в душе ругать барина, но ждет не дождется, когда кончится лето – срок его службы.
Прошло лето, и осень прошла. Щедро расплатился барин, весь долг заработал сразу Гамид. Уехал в Петербург барин, а Гамид с женою возвратились в свою деревню, к старому Амзе. Скучная возвращалась Мялмуре; сказал ей Гамид, что больше не будут служить они у барина. Как сказка, показались ей и лето, и терраса, и барин, который уехал теперь туда, в большой город, где много всего, много красивых девушек.
Рвалось сердце Мялмуре туда за ним, и опостылела ей родная деревня. Не пришелся по сердцу ей и старый Амзя и его грязный домик. Терпел Гамид и думал: не любит отца, не хочет уважить старика – что делать? Его пусть любит только. Сын родился у них и помер. Утешал Гамид свою молодую жену и говорил, что пошлет Магомет им еще много детей.
– Возьми другую жену себе, – отвечала скучная Мялмуре, – я несчастная в детях.
Но всех жен на свете не надо было Гамиду за одну Мялмуре. Он смотрел на нее так, что не выдерживала, бывало, она его взгляда и, положив на плечо ему голову, задумывалась, и сама не знала о чем. Сверкнут слезы в глазах, отведет руку мужа и уйдет.
– Скучает, – вздыхал и Гамид.
Весной рано на другой год увел Гамид жену в степь. Покорилась Мялмуре, но холоднее стала к Гамиду. Смотрит в глаза ей Гамид.
Приехал барин, спрашивал о Гамиде и Мялмуре и уехал к себе в деревню. Неделю там только пробыл и уехал назад в Петербург.
– Скучно без Мялмуре, – сказал он старой Маньяман.
Серьезно сказал или пошутил, но тетка рассказала осенью Мялмуре, и Мялмуре долго, как каменная, сидела и все смотрела вдаль.
Скучно прошла зима. Не было у Гамида и Мялмуре больше детей, и приставала сильней Мялмуре, чтобы взял себе другую жену.
VI
Новая весна пришла. Умерла зимой старая Маньяман. Опять Гамид собирался с женой в степь.
Точно потонула деревушка в ясном июньском дне. Только высокая мечеть смотрит в безоблачное небо. А жаркий ленивый ветерок нет-нет и принесет в деревушку радостную весть, что много хлеба, и спеет он, нежась на просторе полей.
А там, в степи, еще больше этого спеющего хлеба. И спокойными глазами посматривает «бурлак» в ту сторону, за лесом, где залегла необъятная степь.
Скоро, скоро в поход.
Сладко дремлет у ворот поскотины[2 - Поскотиной называется огороженное у деревни пространство, куда загоняется для пастьбы скотина. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)], на пороге своей караулки старый Амзя. Не пойдет он больше в степь и не будет «бурлачить». Ходил он довольно. Сын теперь с невесткой пойдут за него. Он же, чтоб не сидеть у детей на шее, нанялся на лето караулить поскотину.
Поставили у полевых ворот Амзе плетеный шалаш, смазали его глиной и навозом, укрыли соломой, и живет там Амзя за двенадцать рублей в лето, за пять пудов ржаного хлеба да кирпичного чаю фунт.
Больше и не надо ему, да и дела немного: смотреть, чтобы скотина как-нибудь из поскотины не ушла в поле. Запер ворота, и не уйдет. А кто приедет, отворит.
Деревня глухая, в стороне, кто там когда еще приедет, а из своей деревни и сам встанет да отворит. Разве мулла или два-три хозяина из тех богатых, которые на сходах решают его и ему подобных судьбу, приедут, – ну, тогда встанет Амзя.
Много нужды видал Амзя на своем веку, но теперь уже не видит ее больше: сын Гамид у него. И славит старый Амзя Магомета за то, что успокоил он его старость таким сыном. Умеет и заработать и сберечь умеет. Много денег принесет сын, да он двенадцать рублей заработает… Не будет больше знать нужды Амзя. Пусть, кто хочет, ее знает, а он на своем веку довольно знал ее. Пусть никто ее, нужду злую, не знает.
Слава Аллаху и пророку его, что мудро устроили они все: и нужды не знает Амзя, и служба его хорошая, и хлеба много, и дешевле он. А много хлеба, дешев он, да дорога работа, – когда еще бедному человеку дождаться такого года?
Вот как в старинные года хлеб был дешев да много родилось его, – лучше жили люди. Хоть и дешев хлеб, да у всех он есть, – везде и работа. А бедному человеку работа есть, и жив он.
Так думал Амзя, сидя у своего шалаша, и много другого думал, потому что любил думать. Любил думать, еще больше любил, чтобы уважали его. Кто не любит уваженья? Татарин же особенно любит и за отца считает того, кто его уважает.
Любил и Амзя уважение: так и жить хочет теперь, чтоб уважали его. Если прежде нужда и заставляла его «шалда-балда» делать, – наймется, например, зимой на летнюю работу к Миньготе, а придет лето, сам в степь уйдет или в страду бросит работу да с женой и детьми в лес по ягоды уйдет, так что же станешь делать? А теперь, – хоть и не наймет никто его теперь, – если б наняли, кажется старому Амзе, не стал бы уж он так делать.
Вот и бурлаки прошли в степь… Ушел сын с невесткой… Скучно Амзе: сидит он молчаливо и тихо поет стихи из корана.
VII
Весело пошли в степь «бурлаки». Рано только немного вышли: рожь не поспела еще. Но и дома делать нечего, а пока идут, поспеет рожь, – в степи она недели на две, а то и на три скорей поспевает.
Растянулись «бурлаки» по всему тракту. Встретились русские и кто-то заметил: