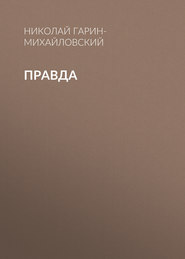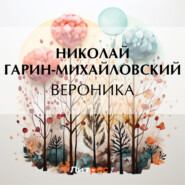По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Несколько лет в деревне
Год написания книги
1908
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дети…
– Куда же я теперь с ними поеду?.. Нет, Господь милостив, ничего не будет, – я не верю этому, а если уж люди действительно так злы, то пусть лучше дети разделят нашу участь. Не стоит жить на свете после этого.
– Конечно, ничего не может быть, просто Чичков делает последние отчаянные попытки, не удастся ли? Ему теперь терять нечего, но остальные, если они не замётаны, с какой стати пойдут за ним?
– Непременно надо сказать крестьянам, что ты их не подозреваешь, – этим сразу ты лишишь почвы человека, которому если и удастся что-нибудь сделать, так только на этой почве.
– Да никогда и на этой почве ничего не удастся сделать. Я теперь совершенно успокоился.
– И я тоже, – отвечала жена.
Я посидел ещё немножко, и когда жена окончательно успокоилась и повеселела, насколько это возможно было при теперешних условиях, скорее – когда мы оба почувствовали себя легко, я встал и сказал:
– Однако, всё-таки, надо быть наготове, – «бережёного и Бог бережёт». Надо посмотреть, что делается во дворе.
Я вышел на двор. Сырой осенний рассвет охватил меня. Низкие тучи, погоняемые резким сильным ветром, неслись над головой. Не то шёл дождь, не то моросило; снег почти весь растаял. На востоке совсем посветлело. Из мрака рельефно выделялись строения, сад; дорога чёрною лентой исчезала вдали.
С деревни доносились нестройные крики пьяной толпы.
Я направился к флигелю. В коридоре, перед дверью, где был заперт Чичков, сидели на полу перед керосиновою лампочкой старик садовник, Сидор Фомич и ключник.
– Сидите, сидите, – остановил я их, когда они, увидев меня, собрались было встать.
Я подошёл и тоже присел на валявшийся чурбан.
– Ну что, Павел, – обратился я к садовнику, – думал ты дожить до таких делов?
Старик, слывший за большого начётчика и философа, всегда разговаривал со мной добродушно-наставительным тоном. Я любил слушать его свободную речь.
– Грехи, грехи! – вздохнул он. – Всё от дьявола, оттого, что мало, всё мало… А вот и ничего не стало – теперь лучше? Точно этим насытишься?
– А чем же насытишься? – спросил я его.
– Благодатью Божиею – этим сыт будешь, а этим… – и Павел махнул рукой. – Насыпала душа полные житницы и говорит: «ешь теперь, пей и веселися на многие лета». А Господь вынул душу в ту же ночь и спрашивает: «а что, душа, где твои житницы? иди-ка в геену вечную». То-то оно и есть. Ещё Господь жалеет, время даёт покаяться, грехи свои замолить…
– Я же, значит, и виноват выхожу во всём этом деле?
– А то кто ж? – спросил спокойно Павел. – С них много ли спросится? Трава они как есть – и больше ничего, а тебе книги раскрыты… Зачем взбулгачил народ? Дьявола дразнить? Урядник дело говорил, становой приехал и разобрал бы всё по закону. А не по закону соблазн один. А в писании писано: «аще кто соблазнит единого от малых сих…» Помнишь? То-то!
– Эх, Павел, ничего ты не понимаешь, – начал было я.
– Всё гордыня наша, – продолжал Павел, не слушая меня. – Ты его взял, а кто тебе власть дал? Твоя сила? А если он тебя возьмёт? Даве сила-то на твоей была, а сейчас, может, на его сторону перейдёт. Ты слышишь, как гомонит-то народ… – и вдруг Павел как-то тоскливо оборвал свой наставительный тон. – Ох, батюшка, никак сюда идут.
Мы все мгновенно вскочили и бросились к окну. Моё сердце сильно стучало.
Вдоль садовой ограды медленно, растянуто двигалась толпа мужиков к усадьбе. Крик, ругань пьяных голосов, по мере приближения, всё больше и больше стихали.
Я стоял точно очарованный. Мысль, что они могут явиться, ни разу не приходила серьёзно мне в голову. Зачем они идут? Требовать освобождения Чичкова? А если я откажусь? Они покончат с нами… С нами? С людьми, которые только и думали, только и жили надеждой дать им то счастье, о котором они и мечтать не смели? Для чего покончить? Чтоб опять подпасть под власть какого-нибудь негодяя вроде Николая Белякова?
Передние вошли во двор и с недоумением остановились, ожидая задних.
Вон стоит пастух, сын той старухи, которой мы некогда сделали русскую печь, выстроили новую избу. Теперь эта изба, эта печь его. Куда девалась его благодушная патриархальная фигура, которою мы так часто любовались с женой, когда, бывало, под вечер, во главе своего стада, он величественно и спокойно выступал, как библейские пастухи, неся на плече знак своего сана – длинный посох? Теперь борода его всклокочена, он сгорблен, шапка сдвинута на бок, глаза скошены, в лице тупое выражение не то какой-то внутренней боли, не то бешенства. Рядом с ним стоит Андрей Михеев, которому прощено столько недоимок, сколько у него волос на голове. Он слегка покачивается; оловянные глаза, без всякого выражения, бессмысленно и тупо смотрят на мой дом, ноги расставлены. Он тоже ждёт остальных или, может быть, старается вспомнить, зачем он пришёл сюда? А вот и старый негодяй Чичков, их новый командир, что-то суетливо и спешно объясняет толпе… Вид его вызвал во мне прилив дикой злобы, смешанной с какою-то ревностью.
Я, со всею моею наукой, со всею моею любовью, со всею моею материальною силой, физически уже побеждён в сущности этим простым, необразованным негодяем. Теперь он посягает на последнее: он хочет заставить меня обнаружить и нравственную несостоятельность, – он хочет заставить меня струсить, хочет вынудить исполнить его требование. Мысль, что человек, мною лишённый былой власти над толпой, теперь опять стал коноводом её – и где же? у меня во дворе, откуда он всегда так позорно изгонялся – жгла меня.
– Нет, негодяй, и теперь ты не долго покомандуешь. Нет, это не твоя толпа, которую ты умел только грабить. Это мои – и только ценою жизни я их тебе уступлю.
И, сдерживая охватившее меня чувство, я отворил дверь и стал медленно спускаться к толпе. Меня не ждали со стороны флигеля и заметили, когда я подошёл почти в упор. Моё неожиданное появление, вероятно, взбешённое, решительное выражение лица произвели ошеломляющее впечатление на Чичкова. Какое-то невыразимое бешенство охватило меня. Я бросился к нему… Дальнейшее я смутно помню. Передо мной мелькнула и исчезла испуганная фигура Чичкова, и я очутился лицом к лицу с молодым Пимановым, сыном караульщика.
– Почему твой отец не на карауле?
Не помню, что он ответил мне, но помню его нахальную, вызывающую физиономию.
– Шапку долой! – заревел я и двумя ударами по лицу сбил его с ног.
– Батюшка, помилуй! – закричал благим матом Пиманов.
Этот пьяный, испуганный крик решил дело.
Передо мной с обнажёнными головами стояла пьяная, но покорная толпа князевцев, а сбоку меня – дворня и самовольно ушедший из-под ареста урядник. Чичков скрывался за изгородью.
Я опомнился.
– Вы зачем пришли? – обратился я к князевцам. – Чичкова освобождать? Ну, так вот вам при уряднике объявляю, что это не ваше дело. Всякого, кто пожелает мешаться не в своё дело, я по закону имею право у себя в доме убить и не отвечу. Урядник! я верно говорю?
– Верно, – ответил урядник.
– Слышите? Если я виноват, это дело суда, а не ваше. Приедет следователь, ему и жалуйтесь, а своих порядков не заводите, потому что как бы вместо закона не попасть вам на каторгу. Да и всё равно этим ничего не возьмёте, – виноватого и без меня накажут. Если богатеи и смутили вас тем, что я думаю на всех, так это не верно; я думаю только на богатых, а вам что за нужда меня жечь?
– Конечно, нам какая нужда тебя жечь? – заорала пьяная толпа. – И мы то ж баяли, а он всё своё – сам, баит, видел, как ты велел уряднику всех записать. Ну, нам быдто и обидно, – верой и правдой быдто служили, а нас же и записать.
– А вы и поверили? – спросил я, и горькое чувство шевельнулось в душе. Но вдруг я вспомнил, что то недоверие, которое так обидно обнаружили крестьяне ко мне, выказал и я в отношении их во всей последней истории. Мысль, что, может быть, они не виноваты, в первый раз пришла мне в голову. Но говорить с пьяною толпой было бесполезно.
– Идите с Богом домой и никому не верьте, – отпустил я толпу. – Я верю в вашу невинность и благодарю вас за службу. – Нельзя сказать, чтобы последнее я сказал искренно.
Успокоенная толпа весело побрела домой.
На другой день приехал и следователь, и становой. Следствие заключилось тем, что Ивана Чичкова, связанного, усадили в сани и повезли в острог. Горе семьи, родных, рыдание жены и троих детей, причитыванье баб, прощание всей деревни с преступником были очень тяжелы. Последними словами Ивана были:
– Погубил я себя, а душеньку спас. Будет она в раю, и неугасимая свеча будет гореть перед ней…
Пусто и тяжело было у меня на душе.
Обгорелые кучи пеньки, вместо некогда красивых строений, мёртвая тишина во дворе, на деревне, испуганное лицо случайно забредшего, спешившего уйти, князевца, грозный вопрос – как дальше быть?..
И это всё пронеслось скорее, чем думал я.
К вечеру, как громом, поразила нас эстафета о том, что у матери рак, что необходимо уговорить её согласиться на операцию, и что сёстры умоляют нас немедленно приехать.