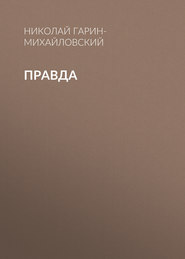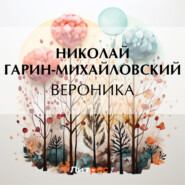По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Несколько лет в деревне
Год написания книги
1908
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Барина нам Господь какого дал! Сколько жили, такого не видали, – сказал Пётр Беляков. – Кажись, на такого барина бы радоваться только…
Пётр запнулся.
– А его сожгли, – хотел сказать я весёлым голосом, но голос помимо меня дрогнул.
Толпа потупилась.
– Сожгли ли? – спросил я. – Разве я заслужил перед вами, чтобы меня жечь?
– Где заслужил! – горячо сказал Пётр. – Тоись, умереть – такого барина не нажить.
– Народ плох стал, – сказал Елесин. – Правды вовсе нет. Ты ему добро, а он норовит по-иному. Не сообразиться с ними. Неловко, чего и говорить. За твою добродетель в ножки бы тебе кланяться.
– Так вы думаете, что сожгли?
– Сумнительно, – ответил Елесин, потупившись.
– Э, пустое! – сказал Исаев повеселевшим голосом. – Ну, кому жечь-то? за что? знамо, ночью схватило, – ну, и думается. А по мне, просто печники, что кирпичи делали и спали поблизости, как-нибудь сигарку уронили в солому.
– Оно, положим, что с вечера они маненько выпивши были.
– Эх, и напугались же мы, – сказал Керов. – Так и думали, что все сгорим. Ветер-то прямо на деревню – искры так и сыпет. Повыскакали, как были, из изб, глядим, а от страха и не знаем, чего делать, – к тебе ли бежать, свою ли животину спасать.
– К тебе побегли все до единого, – сказал староста, – всю ночь промаялись.
– Откуда же загорелось?
– От соломы пошло, с кирпичного завода.
– Лифан Иванович, по-твоему, какая причина? – спросил я.
– Надо быть от кирпичников грех: выпивши с вечера-то были.
– А они что говорят?
– Знамо, – что, отпираются.
Позвал я кирпичников. Путаются, ничего не добьёшься.
– Да говорите толком, – искать не стану.
– Господь его знает, может, и от нас грех.
– Так бы давно, – облегчённо заговорила толпа. – Развязали грех – и ладно. А то и нам неловко, и барину быдто сумнительно.
– Мне-то, положим, не сомнительно, – ответил я, – я и минуты не погрешил, чтобы подумать на кого-нибудь. Просто несчастный случай – и конец. Ступайте с Богом и не сомневайтесь.
Всё ж таки какое-то неясное, неприятное чувство осталось в душе. Мы с женой порешили, что был несчастный случай; всякому я рот зажимал с первых же слов, говоря, что это несчастный случай, а, всё-таки, на душе было неприятно.
Сгорело тысяч на 10.
Я ничего не страховал. Происходило это, главным образом, по беспечности русской натуры: «авось не сгорит». Но после пожара мельницы я уже не мог заставить себя что-нибудь застраховать по другой причине: мне казалось, что застрахуйся я теперь, я показал бы этим и себе, и окружающим недоверие к моим мужикам. Конечно, это было высоко непрактично с моей стороны, но побороть этого я не мог в себе. Во всех отношениях к крестьянам я стремился к тому, чтобы вызвать с их стороны доверие к себе, а для этого и сам старался показывать им полное доверие. Страховка же, по моему мнению, шла бы в разрез со всем моим образом действий.
На замечание одного князевца, зачем я не застрахуюсь, я ответил:
– И не думаю. Стану я вас перед чужими деревнями срамить! Чтобы сказали: «князевский барин от своих страхуется»?
– Свои-то не сожгут. Странние…
– Ну, а странние-то и подавно не сожгут, – отвечал я.
Мало-помалу всё пошло своим чередом.
Крестьяне, получив прибавку за проданный зимою хлеб, повеселели и довольно охотно вспахали пар без предполагавшихся урезок. Пришла уборка, наступила молотьба. У крестьян был плохой урожай. У меня, благодаря перепаханной земле, хлеб был выдающийся. Немцы – и те удивлялись. Пришлось строить новые амбары, так как старых не хватало.
– Эх, и хлеб же Господь тебе задал нынче! Как только совершит, – говорили крестьяне.
– Да уж совершил, – почти в амбаре весь, – отвечал я.
Подсолнухи уродили до 200 пудов на десятину.
Я насеял их слишком сто десятин. Средняя рыночная цена за пуд была 1 р. 30 коп.
Пришлось для них выстроить громадный новый сарай и, за неимением другого материала, покрыть соломой. Чтобы было красивее, я покрыл его по малороссийскому способу. Каждый день, просыпаясь, я любовался в окно на мою красивую клуню, напоминавшую мне мою далёкую родину. Наконец, и последний воз подсолнухов был ссыпан. Всего вышло 18,000 пудов.
Был день крестин моего сына и девятый день родов жены. По этому поводу мы устроили вечер, на который, кроме знакомых уже читателю соседей, приехал из города руководивший моим делом по наследству присяжный поверенный с женой. Вечер прошёл очень оживлённо.
Дело подходило к ужину. В столовой стучали тарелками. У Синицына с присяжным поверенным завязался оживлённый спор. Синицын доказывал, что Константинополь России необходим. Присяжный поверенный слушал и, вместо ответов, смеялся тихим, беззвучным смехом.
Синицын кипятился:
– Если, кроме смеха, у вас нет других аргументов для доказательства, что Константинополь не нужен, то, согласитесь, это ещё не много!
– Да тут и доказывать нечего, – к чему он нам?
– Да хоть бы… – начал Синицын.
– Для виду, – поддержала его жена присяжного поверенного.
– Да хоть бы для того, – продолжал Синицын, пропуская шпильку, – чтобы прекратить возможность наносить нам постоянный вред вмешательством в дела Балканского полуострова.
– Полноте, какой там вред и кто мешается? Сами мы во всё мешаемся и лезем туда, где нас не спрашивают.
– Но, позвольте, вы не хотите признавать фактов. В настоящее время положение таково, что любой заграничный листок одним намёком на восточный вопрос может колебать нашу биржу. Кому надо, тот и играет на этой слабой нашей струнке.
– Вот, вот, вот! Вольно же вам создавать себе слабую струнку! Откажитесь от неё – никто и не будет играть. Ясно, кажется.
– Но, ведь, так и от отца с матерью отказаться придётся.