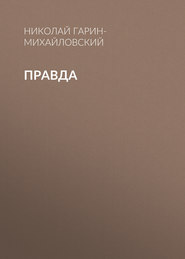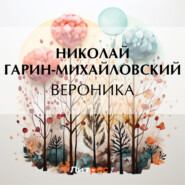По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Несколько лет в деревне
Год написания книги
1908
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В руки как допустит, – укоризненно пояснил Елесин.
– Ну, уж ты, – рассмеялся я. – Так, ведь, никогда и порадоваться нельзя. В амбар ссыпешь и там будет неспокойно.
– Пропадёт и там, – проговорил Елесин.
– Когда же, по твоему, благодарить Господа?
– А вот как, Бог даст, живы будем, съедим хлебушек-то, тогда и благодарить станем.
– Ну, тогда благодарить поздно, по-моему.
– А по-нашему, теперь рано.
– А по-моему, благодарить Бога да радоваться всегда надо, а придёт беда, тогда уж и радоваться нечему. Так и радоваться никогда не придётся.
– Знамо, гневить Бога нечего, – согласился Керов, – посылает милость, видимое дело.
– Ещё бы не милость оказал, – отвечал я, – шутка сказать: по 150 пудов на десятину уродилось.
– Ну, где уж полтораста, ста не будет, – возразил Исаев. – Разве в таком редком хлебе может быть 150? Погуще. маленько посеяли бы, может и было бы.
– А я говорю 150, а на моей земле 250.
– Не будет, – убеждённо мотнул головой Исаев.
– В жизнь не будет, – сказал Ганюшев. – Я вот на что, хоть об заклад пойду, т. е. рот разорви меня, коли будет! Отродясь на нашей земле того не бывало, чтобы 250 родило.
– Ну, что ж, – отвечал я, – давай биться об заклад.
Ганюшев, опешив, уставился на меня.
– Я ставлю тебе полведра водки, если твоя правда, а если моя, ты должен привезти две десятины снопов.
– Да как же мы спорить станем?
– А так и станем. Вот сейчас пойдём на загон, отобьём осьминник и обмолотим на молотилке.
Ганюшев нерешительно смотрел на меня.
– Ну, что ж, иди, – сказал я ему, – тебе уж не впервой меня нажигать.
– Не знаю, как…
– Ты же сам предлагал заклад, что не будет 250 пудов?
– В жизнь не будет!
– Ну, так иди.
– Идти, что ль? – обратился он к мужикам.
– Знамо, иди!
– Чего не идти?
– Не знаю, как…
– Айда пополам, – вызвался Исаев.
– Идти, иди! чего ты?
– А откуда снопы возить? – спросил Ганюшев.
– Ну, хоть с речки.
– То-то, – сказал Ганюшев. – А ты вот чего: десятину снопов поставь.
– Нет, две.
– Ну, айда! – решился, наконец, Ганюшев, – что будет! – проговорил он.
Через час мы уже взвешивали смолоченную рожь; по расчёту на десятине получилось 275 пудов.
– Что, Ганюшев, видно, не каждый раз тебе меня накрывать? – спросил я.
Ганюшев утешал себя тем, что и у него, пожалуй, будет 150 пудов.
– Ага, стал верить, – рассмеялся я.
Мужики пристали, чтобы я простил Ганюшеву проигранное пари, а им бы выдал на ведро водки.
– Ох уж мне эта водка! – отвечал я. – Вперёд вам говорю, господа: с нового года кабак закрою, – либо я, либо кабак.
– Да и нам в нём радости нет, – согласился Елесин, – хоть сейчас.
– Без кабака хуже, – заметил Пётр Беляков. – Было у нас – закрыли, так что ж ты думаешь? – в каждой избе кабак открылся, водку пополам с водой мешали; грех такой пошёл, что через месяц опять целовальника пустили. Мещанишки мы, сударь: староста наш ничего не может поделать, так и живём, как на бессудной земле (у мещан староста не имеет полицейской власти).
– Я вам буду за старосту и сам досмотрю, чтобы не торговали водкой. Раз, два накрою, посидит в тюрьме – пропадёт охота.
– Греха много будет, – заметил Пётр.
– Не будет, – отвечал я.
– Кто там жив ещё будет, – замял Андрей Михеев, – а теперь бы хорошо пропустить с устатка. Вон твоей милости без малого сотнягу намолотили, по пятаку, и то на ведро наработали.
– Да, ведь, обидно то, что к моему ведру вы своих три прибавите.
– Ни Боже мой! – горячо отозвался Михеев, а за ним и другие. – Вот там выпьем и тем же духом айда спать!