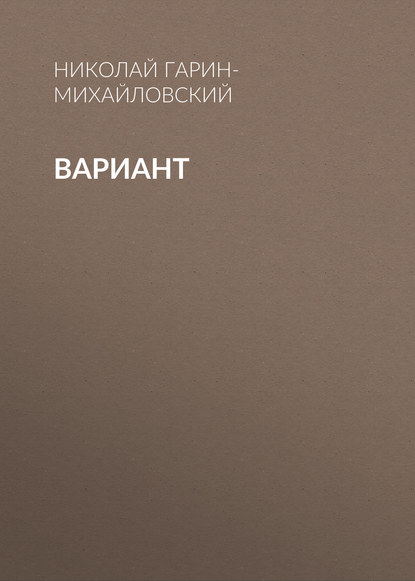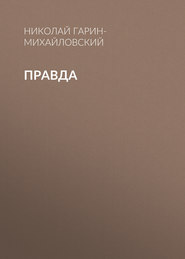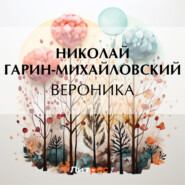По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вариант
Год написания книги
1910
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жена, услышав шум в спальне, вбежала с телеграммой в руках.
– От Елецкого, – проговорила она, целуя мужа.
Кольцов жадно схватил телеграмму:
«Из ваших вариантов останавливаюсь на линии прошлого лета. О радиусе и тоннели при теперешних условиях не может быть и речи».
Вежливый тон телеграммы успокоил Кольцова.
– Ну, вот это ответ. По крайней мере никакой пищи нет досужим сплетникам. Ясно, что в одном и том же месте двух линий сразу нельзя выбрать, а так как обе мои, то ничего и обидного нет. За эту деликатность я ужасно люблю Елецкого, – говорил Кольцов повеселевшим тоном.
Жена Кольцова тоже просияла, увидев, какое действие произвела телеграмма на мужа.
За чаем Кольцов сказал ей, что решил сам ехать.
– Без разрешения? – спросила, испугавшись, жена.
Кольцов не ответил, так как и сам не знал, как быть.
С одной стороны, нужно было торопиться, а разрешение затягивало отъезд, да и сомнительна была возможность его получения в данный момент, с другой – ехать без разрешения было невежливо и, пожалуй, рисковало.
– Могу испортить все дело. Он сам такой деликатный и терпеть не может неделикатности в других.
Решено было так. Кольцов телеграфировал Вельскому, чтоб тот действовал в смысле вызова его, Кольцова, для личных объяснений. Елецкому Кольцов послал телеграмму в двести пятьдесят слов. Тон телеграммы мало было бы назвать горячим. Страстные доводы Кольцов закончил следующими словами: «Прошу извинить за настойчивость, необходимость варианта настолько очевидна, что не может пройти незамеченным. Во избежание справедливых нареканий в будущем вынужден беспокоить вас просьбой разрешить лично приехать».
К вечеру Кольцов получил следующий ответ:
«Ваша телеграмма не переменила моего решения. Если считаете необходимым, приезжайте».
Кольцов выехал в ночь.
Оставлял он семью с тяжелым чувством. Кашель у Коки становился все сильнее. В самый момент выезда сильный припадок так ослабил мальчика, что он весь посинел и впал в легкий обморок. Такого припадка еще не было.
Тяжелое предчувствие недоброго конца этой болезни первый раз закралось в душу Кольцова. Всем существом рвануло его к сыну, он забыл все на свете, схватил его на руки, прильнул к его исхудалому личику, и горькие слезы полились из глаз. Прощанье было подавляющее и тяжелое. Никогда еще Кольцов не оставлял свою семью угнетенным чувством тоски и сознания своего бессилия что-нибудь изменить из предназначенного судьбой. Первый раз после долгих лет рука его поднялась, чтоб осенить своего маленького сына крестом.
– Да хранит тебя господь! – с глубоким чувством проговорил он.
Кольцов остановился в квартире Вельского, Дубровина и Денисова.
Компания рассказала ему, что «Елька» страшно взбешен и против варианта. На торгах линия осталась за Бжезовским, и распорядителем работ был приглашен Делори. Делори тоже высказался против варианта, указывая на слабую его сторону – захват реки, и немало содействовал тому, что вариант Кольцова был забракован.
– Послушайте, Кольцов, – говорил ему Вельский на другой день, идя с ним в управление, – главное, не горячитесь. Помните, что с Елькой можно работать, он человек честный и действует по убеждению. Доказать ему всегда можно, но это надо сделать спокойно, рассудительно и толково. И вы это можете, если захотите. Смешно же, в самом деле, всю жизнь изображать из себя лошадь, которой чуть попадет вожжа под хвост – и пошла потеха. Вспомните только, что, двенадцать лет работая, вы еще ни одного дела не довели путно до конца. Начнете блистательно, потом по поводу выеденного яйца появляется на сцену вопрос о доверии, и – Кольцов за бортом. И кончается тем, что все сыграется в руку прохвостам. У вас дело правое и стойте за него до смерти, – пусть вас по суду гонят, если хотят, но с какой же благодати губить дело из-за личного самолюбия?
– Правда есть в ваших словах, – отвечал Кольцов. – Личного болезненного самолюбия у меня больше, чем надо, но я вам скажу одно. Четыре раза уже я бросал дело и уходил со скандалом. Временно мне были заперты все двери в нашем министерстве, но никогда я не жалел, что поступал так. При тех условиях не было другого выхода. Теперь иное дело. Во всяком случае я не буду горячиться, спасибо вам.
– Вас уже прозвали трубадуром, но если вы из теперешнего положения дела опять сделаете министерский вопрос, я буду называть вас бестолковым трубадуром.
– Не сделаю, – отвечал Кольцов.
В передней правления они расстались. Вельский прошел в техническое отделение налево, Кольцов – в кабинет начальника работ направо.
В ожидании приезда начальника работ Кольцов заглядывал во все комнаты правления, отыскивая знакомых. Все здоровались с ним радушно, но как-то обидно-снисходительно. Все знали про его неудачный вариант, и общее мнение было, что Кольцов, что называется, зарапортовался.
Выразителем общего мнения был Щеглов, правитель канцелярии.
– Что, батюшка, сорвалось? – встретил он Кольцова. – Ну, что ж делать? Не всякое лыко в строку. Надо вас и осадить немножко, а то этак вы через год и до министра доберетесь.
– Руки коротки для осадки, – строптиво возразил Кольцов.
– Будто коротки? – спросил Щеглов, добродушно подмигивая своему помощнику. И ласково прибавил: – Ну, ну, ладно, бог с вами. Где вы сегодня вечером?
Пришел швейцар и доложил, что начальник работ приехал и просит Кольцова.
Кольцов вскочил, застегнул пуговицу и, не прощаясь, быстро пошел за швейцаром.
– Будет баталия, – сказал Щеглов, закуривая папироску. – Надо послушать.
И он, собрав для подписи нужные бумаги, неспешной походкой направился к Елецкому.
Когда он вошел в рабочую комнату начальника работ, из кабинета донесся до Щеглова взбешенный, громкий голос Елецкого:
– Да что же это, наконец, такое? Слова нельзя сказать, как он свою отставку сует.
На этот возглас не замедлил взволнованный ответ Кольцова:
– Вариант необходим. Вопрос в том, что я, может быть, не сумел доказать вам его необходимость, вот почему я должен буду оставить свое место, чтобы уступить его более способному доказать это.
Щеглов постоял несколько мгновений нерешительно, махнул рукой и возвратился в свой кабинет.
Кольцов продолжал:
– Николай Павлович, поверьте мне, что я прекрасно знаю все те неприятности, которые вы испытываете, но чем же виновато дело, что во главе его стоят люди, не понимающие его? И, наконец, то, что сегодня не ясно, будет как на ладони, когда дорога выстроится. Огорчения теперешние будут пустяком по сравнению с теми, которые мы с вами испытаем тогда. Вы говорите, что нас выгонят. Для вас уступка невежеству непринятием моего варианта, может быть, имеет полный смысл, – вы этим спасаете все дело, но где же утешение для меня? Все мое дело заключается в этом варианте, мое неумение провести его в жизнь – уже тяжелое сознание своего бессилия, и неужели же мне, сверх этого, в течение двух лет постройки еще мучиться изо дня в день при мысли, что я строю не то, что должно, и что строится это только благодаря моей неспособности доказать, что белое – белое, а черное – черное? Вот что побуждает меня заявить о своей отставке. Это не взбалмошное чувство оскорбленного самолюбия. Я отлично знаю, что я теряю, оставляя службу, – лучше поставленного дела я не видал еще, да и вряд ли где-нибудь найду.
Кольцов замолчал.
Елецкий мрачно ходил по комнате. Молчание длилось несколько минут.
– Кончится тем, что мне самому придется уйти, – проговорил Елецкий, махнув раздраженно рукой. И, обратившись к Кольцову, сердито спросил: – Где вариант?
Кольцов быстро развернул чертежи и взволнованно начал излагать идею нового варианта.
Через четыре часа Кольцов вышел из кабинета начальника работ, и по его счастливому лицу не трудно было угадать, в чем дело.
Елецкий вышел немного спустя и прошел в кабинет своего помощника.
Инженер Стороженко, около пятидесяти лет, плотный, среднего роста, с гладко выбритым лицом, густыми усами, большими выразительными глазами, производил при первом взгляде впечатление человека слегка грубоватого, но добродушного и прямого. Но тем не менее это был дипломат в своем роде, как вообще все хохлы. Будучи безукоризненно честным, он строго держался правила: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Личную инициативу он проявлял только в том направлении, о котором знал, что оно будет одобрено. В вопросах сомнительных он хотя и выражался решительно, но так, что из его слов ничего нельзя было вывести. Елецкий вошел и сел на диван.
– Что за молодец Кольцов! Трое-четверо таких инженеров – и можно хоть всю Сибирскую дорогу взяться строить.