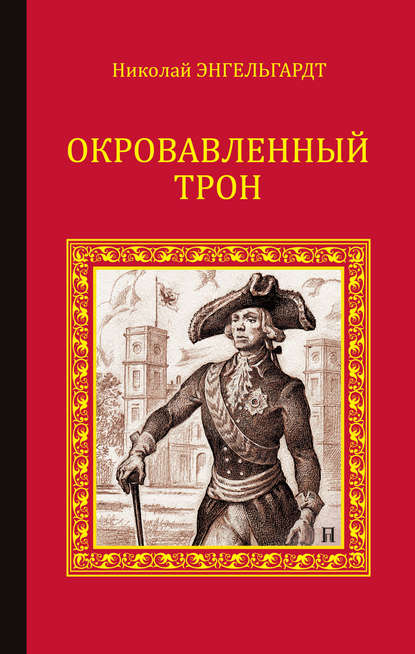По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Окровавленный трон
Год написания книги
1907
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сварил?! – крикнул Павел Петрович, опять разражаясь смехом. – Давай, давай сюда! Посмотрим!
– Извольте попробовать, государь, – сказал аббат.
София Ивановна поставила поднос с чашками перед императором, аббат же с ловкостью опытнейшего кафешенка высоко поднял шоколадник, тонкой струйкой напенил темную, ароматную жидкость в обе чашки.
– Извольте попробовать, – государь, повторил он, почтительно склоняя голову с тонзурой, прикрытой фиолетовой шапочкой.
– Постой, – сказал император серьезно, – выпей сначала сам чашечку.
– Если прикажете, государь…
Аббат взял чашечку и приложился к ней.
– До дна, аббат, до дна, – строго сказал император, пристально глядя в лицо иезуита.
Аббат выпил, обжигая губы и язык пламенной жидкостью, со стоическим терпением чашку до дна и низко поклонился императору.
Среди общего молчаливого внимания Павел Петрович поднес другую чашку к устам, отведал и тоже поклонился аббату.
– Господин аббат Губер, – торжественно сказал император, – ваш шоколад есть точно настоящий иезуитский шоколад. Marie, отведай! – обратился он к императрице, подавая чашку.
Государыня пригубила шоколад и поспешила сказать, что напиток превосходен и совершенно такой, каким их угощали виленские отцы.
– Господин аббат Губер, – повторил с прежней торжественностью низко кланявшемуся иезуиту император, – жалую вас мальтийским крестом и командорством, кроме того, имеете вы получить от трезорьера нашего шестьсот шестьдесят шесть душ и табакерку, бриллиантами украшенную, с портретом нашим, и впредь имеете доступ в кабинет наш во всякое время без особливого доклада. Есмь вам благосклонным!
VIII
ГОРЕЛКИ
Полдник кончился. Император, императрица и все августейшие и высокие гости сошли в цветники. Было уже пять часов, и дневной жар несколько спал. Напоенный благоуханием цветов воздух освежали брызги каскадов. Из аллей, боскетов, куртин и рощиц обширного парка веяло тенью и свежестью. Вельможи окружили сияющего аббата Губера, поздравляли с монаршей милостью и умоляли сообщить им секрет варки иезуитского шоколада.
– О, это совсем просто, господа, совсем просто! – уклоняясь, с любезностью отвечал лукавый иезуит.
Тень опасения и недовольства легла на лица некоторых из французских роялистов. Принц Конде, видимо, был расстроен, но это не помешало ему взять аббата под руку и, прогуливаясь, развить перед ним идеи спасения алтарей и престолов единением всех людей доброй воли, преданных богоучрежденным порядкам. Будучи недалеко от императора, принц громко сказал:
– La cause du roi de France est celle de tous les rois! (Дело французского короля есть дело всех королей!)
Но император не обратил внимания на фразу принца. Он направился к тесной группе монастырок. Они окружили придворного шута Иванушку. Шут гремел бубенчиками. Звонкий девичий смех сопровождал остроумные ответы шута на обычный вопрос: «Что от кого родится?»
Иванушка был бритый, плешивый, маленький старичок; узкие глазки его сверкали замечательным умом.
Павел Петрович приблизился. Цветник смеющихся монастырок расступился. Вельможи следовали за государем. Под приятными улыбками у врагов лопухинской партии скрывалась уже зародившаяся ненависть к злому и остроумному лопухинскому шуту, знавшему слабости и причуды каждого и всю скандальную хронику двора и обеих столиц. Милость к Лопухиной озаряла всех, с ней связанных, даже шута Иванушку. Придворная челядь завидовала быстрой карьере старикашки. Вельможи видели в нем лопухинского шпиона. Сторонники Лопухиных, наоборот, сладко, заигрывающе хихикали, подмигивая приятельски дураку.
– Господа, – обратился император к окружавшим его, – не пренебрегайте Иванушкой. В доброе старое время голова под колпаком с бубенчиками нередко видела дальше головы, осененной венцом!
– Что от меня родится, Иванушка? – желая угодить монарху, спросил и «бриллиантовый» князь Куракин.
– От тебя: обеды, ужины, бутылки, рюмки, браслеты, запонки, манжеты, табакерки, корсеты, подвязки! – отвечал шут.
Император и все вельможи улыбались. И Куракин снисходительной миной старался скрыть досаду.
– А что от меня родится, шут? – спросил фельдмаршал Суворов.
– Правда, честь, походы, победы, слава, слава, слава! – отвечал шут и, сняв колпак с бубенчиками, подбросил его и подхватил неловко опять на свою острую, плешивую голову.
– А еще что? – сказал Павел Петрович.
– Ревность, женины дрязги, салоны, туфли, рога, рожки!
– Лови! – крикнул Суворов, бросая шуту червонец.
Все знали нелады и ревность великого полководца к жене, ему изменявшей, несколько раз уже затевавшего с ней развод и вновь мирившегося.
– А от меня? – сказал король Август Понятовский.
– Старое венгерское, векселя, польские фляки, подагра, паутина!
– Дерзкий шут! – покраснев и надувшись, сказал развенчанный король и отошел.
Государь потирал руки от удовольствия. Вельможи улыбались.
– Ну а вот от этого? – спросил государь, указывая на поэта и сенатора Державина.
– Оды, лесть, ябеды, кляузы, рифмы, стопы, реестры, мемории, тропы, фигуры, наказы, указы, синекдохи, гиперболы, архивная моль!
– Что от меня родится, Иванушка? – спросила хорошенькая белокурая монастырка с родинкой на щеке.
– Капризы, стрекозы, лилии, розаны, леденчики, пастила, тряпки, башмаки, бантики!
– А от меня? – спросила другая смуглянка с огненными глазами.
– Яд, ревность, кинжалы, змеи, драконы, черные маски, червонцы!
– А от меня, Иванушка? – спросила полная, высокая девица.
– Варенье, соленье, печенье, пряженье, четырнадцать котят!
– Ну, Иван, теперь и мне скажи, что от меня родится? – сказал, наконец, и государь.
Все с интересом ожидали ответа шута. А он сморщился, подперши одной рукой голову, а другой растирая под ложечкой.
– Ой! Ой! Живот болит! – взвыл, наконец, шут.
– Говори! Говори, брат! – требовал император. – Назвался груздем – полезай в кузов.
Шут повесил на сторону голову и плачевным тоном забормотал:
– От тебя, государь, родятся: чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки, каторги, кнуты!
– Извольте попробовать, государь, – сказал аббат.
София Ивановна поставила поднос с чашками перед императором, аббат же с ловкостью опытнейшего кафешенка высоко поднял шоколадник, тонкой струйкой напенил темную, ароматную жидкость в обе чашки.
– Извольте попробовать, – государь, повторил он, почтительно склоняя голову с тонзурой, прикрытой фиолетовой шапочкой.
– Постой, – сказал император серьезно, – выпей сначала сам чашечку.
– Если прикажете, государь…
Аббат взял чашечку и приложился к ней.
– До дна, аббат, до дна, – строго сказал император, пристально глядя в лицо иезуита.
Аббат выпил, обжигая губы и язык пламенной жидкостью, со стоическим терпением чашку до дна и низко поклонился императору.
Среди общего молчаливого внимания Павел Петрович поднес другую чашку к устам, отведал и тоже поклонился аббату.
– Господин аббат Губер, – торжественно сказал император, – ваш шоколад есть точно настоящий иезуитский шоколад. Marie, отведай! – обратился он к императрице, подавая чашку.
Государыня пригубила шоколад и поспешила сказать, что напиток превосходен и совершенно такой, каким их угощали виленские отцы.
– Господин аббат Губер, – повторил с прежней торжественностью низко кланявшемуся иезуиту император, – жалую вас мальтийским крестом и командорством, кроме того, имеете вы получить от трезорьера нашего шестьсот шестьдесят шесть душ и табакерку, бриллиантами украшенную, с портретом нашим, и впредь имеете доступ в кабинет наш во всякое время без особливого доклада. Есмь вам благосклонным!
VIII
ГОРЕЛКИ
Полдник кончился. Император, императрица и все августейшие и высокие гости сошли в цветники. Было уже пять часов, и дневной жар несколько спал. Напоенный благоуханием цветов воздух освежали брызги каскадов. Из аллей, боскетов, куртин и рощиц обширного парка веяло тенью и свежестью. Вельможи окружили сияющего аббата Губера, поздравляли с монаршей милостью и умоляли сообщить им секрет варки иезуитского шоколада.
– О, это совсем просто, господа, совсем просто! – уклоняясь, с любезностью отвечал лукавый иезуит.
Тень опасения и недовольства легла на лица некоторых из французских роялистов. Принц Конде, видимо, был расстроен, но это не помешало ему взять аббата под руку и, прогуливаясь, развить перед ним идеи спасения алтарей и престолов единением всех людей доброй воли, преданных богоучрежденным порядкам. Будучи недалеко от императора, принц громко сказал:
– La cause du roi de France est celle de tous les rois! (Дело французского короля есть дело всех королей!)
Но император не обратил внимания на фразу принца. Он направился к тесной группе монастырок. Они окружили придворного шута Иванушку. Шут гремел бубенчиками. Звонкий девичий смех сопровождал остроумные ответы шута на обычный вопрос: «Что от кого родится?»
Иванушка был бритый, плешивый, маленький старичок; узкие глазки его сверкали замечательным умом.
Павел Петрович приблизился. Цветник смеющихся монастырок расступился. Вельможи следовали за государем. Под приятными улыбками у врагов лопухинской партии скрывалась уже зародившаяся ненависть к злому и остроумному лопухинскому шуту, знавшему слабости и причуды каждого и всю скандальную хронику двора и обеих столиц. Милость к Лопухиной озаряла всех, с ней связанных, даже шута Иванушку. Придворная челядь завидовала быстрой карьере старикашки. Вельможи видели в нем лопухинского шпиона. Сторонники Лопухиных, наоборот, сладко, заигрывающе хихикали, подмигивая приятельски дураку.
– Господа, – обратился император к окружавшим его, – не пренебрегайте Иванушкой. В доброе старое время голова под колпаком с бубенчиками нередко видела дальше головы, осененной венцом!
– Что от меня родится, Иванушка? – желая угодить монарху, спросил и «бриллиантовый» князь Куракин.
– От тебя: обеды, ужины, бутылки, рюмки, браслеты, запонки, манжеты, табакерки, корсеты, подвязки! – отвечал шут.
Император и все вельможи улыбались. И Куракин снисходительной миной старался скрыть досаду.
– А что от меня родится, шут? – спросил фельдмаршал Суворов.
– Правда, честь, походы, победы, слава, слава, слава! – отвечал шут и, сняв колпак с бубенчиками, подбросил его и подхватил неловко опять на свою острую, плешивую голову.
– А еще что? – сказал Павел Петрович.
– Ревность, женины дрязги, салоны, туфли, рога, рожки!
– Лови! – крикнул Суворов, бросая шуту червонец.
Все знали нелады и ревность великого полководца к жене, ему изменявшей, несколько раз уже затевавшего с ней развод и вновь мирившегося.
– А от меня? – сказал король Август Понятовский.
– Старое венгерское, векселя, польские фляки, подагра, паутина!
– Дерзкий шут! – покраснев и надувшись, сказал развенчанный король и отошел.
Государь потирал руки от удовольствия. Вельможи улыбались.
– Ну а вот от этого? – спросил государь, указывая на поэта и сенатора Державина.
– Оды, лесть, ябеды, кляузы, рифмы, стопы, реестры, мемории, тропы, фигуры, наказы, указы, синекдохи, гиперболы, архивная моль!
– Что от меня родится, Иванушка? – спросила хорошенькая белокурая монастырка с родинкой на щеке.
– Капризы, стрекозы, лилии, розаны, леденчики, пастила, тряпки, башмаки, бантики!
– А от меня? – спросила другая смуглянка с огненными глазами.
– Яд, ревность, кинжалы, змеи, драконы, черные маски, червонцы!
– А от меня, Иванушка? – спросила полная, высокая девица.
– Варенье, соленье, печенье, пряженье, четырнадцать котят!
– Ну, Иван, теперь и мне скажи, что от меня родится? – сказал, наконец, и государь.
Все с интересом ожидали ответа шута. А он сморщился, подперши одной рукой голову, а другой растирая под ложечкой.
– Ой! Ой! Живот болит! – взвыл, наконец, шут.
– Говори! Говори, брат! – требовал император. – Назвался груздем – полезай в кузов.
Шут повесил на сторону голову и плачевным тоном забормотал:
– От тебя, государь, родятся: чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки, каторги, кнуты!
Другие электронные книги автора Николай Александрович Энгельгардт
Другие аудиокниги автора Николай Александрович Энгельгардт
Калиостро




 4.67
4.67