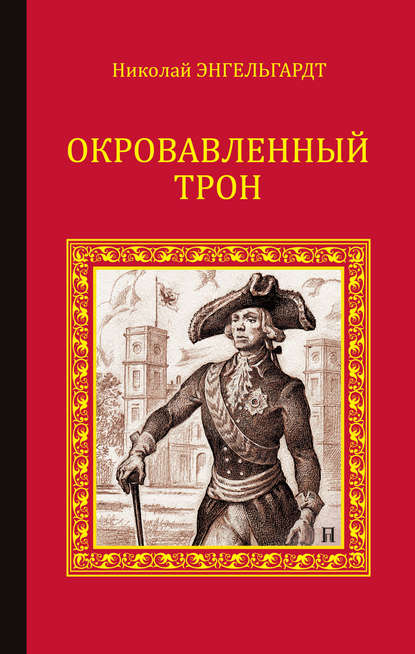По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Окровавленный трон
Год написания книги
1907
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Принцесса, при каких обстоятельствах мы видимся с вами! – сказала Нелидова. – Как еще недавно кажется то время, когда мы впервые узнали друг друга! Как свежо воспоминание о путешествии графа и графини Северных! Тысяча семьсот восемьдесят первый год!
Голова принцессы Тарант задрожала от внутреннего волнения еще заметнее, так что она изо всей силы схватила себя за подбородок, силясь поддержать ее.
– Весь мир изменился с тех пор в немного лет, дорогая mademoiselle, весь мир! Гнев Божий постиг Францию и потряс престолы королей Европы. Безумие народов готовит им гибель. Но какие прекрасные дни напомнили вы мне, какие прекрасные дни!
Принцесса усаживалась в кресло. Улыбка восхищения порхала возле ее тонких губ, озаряя отцветшее, но нарумяненное лицо.
– Прелестные воспоминания! Счастливые времена! – отозвался граф Шуазель.
– Помните, князь, наше путешествие? – обращаясь к Куракину, оживленно заговорила Екатерина Ивановна. – Вы ведь были тогда в свите великого князя… Ах, он был тогда еще великий князь! Помните Вишневец, где нас принимал польский король Станислав-Август? И он уже не король… А потом – Вена, Неаполь, Рим, древности, художества, самая приятная погода, и этот милый, добрейший папа Пий Шестой! И потом Милан, Турин и, наконец, Париж – водоворот людей, вещей и событий, как сказал тогда его высочество!
На всех, бывших в гостиной, кроме нунция Литты, нахлынули, видимо, такие волнующие воспоминания, что несколько мгновений длилось молчание. В умах собеседников быстро сверкающей вереницей прошли картины недавних еще, но безвозвратно былых приемов, празднеств, балов в Версале, Трианоне, Шантильи, которыми чествовали Людовик XVI и Мария-Антуанетта русских гостей – сына северной Астреи с прекрасной супругой, incognito объезжавших дворы Европы. Действительно, старая французская монархия представлялась тогда цесаревичу Павлу во всем блеске своего величия, невыразимой прелести, утонченной роскоши, нравов, обхождения, просвещения.
– Павел Петрович очаровал французское общество. В Версале, да, – в Версале он производил впечатление, что знает французский двор, как свой собственный, – сказал князь Куракин.
– А в мастерских наших художников, – заметил граф Шуазель, – Он обнаружил такое знание искусств, которое могло только сделать его похвалу более ценной для художников. Я могу это засвидетельствовать, потому что король… – он внезапно остановился и, закрыв руками лицо, прошептал: – Ах! То был король Людовик XVI! – повелел мне сопровождать графа Северного в его посещениях мастерских, – докончил, открывая лицо, граф. – В особенности он осмотрел с величайшим вниманием мастерские Грёза и Гудона.
– В наших лицеях, академиях, – сказала принцесса Тарант, – своими похвалами и вопросами Павел Петрович доказал, что не было ни одного рода таланта и работы, который не возбуждал бы его внимания, и что он равно знал всех людей, знания или добродетели которых делали честь их веку и их стране. Его беседы и все слова, которые остались в памяти, обнаружили не только весьма проницательный, образованный ум, но и утонченное понимание всех оттенков нашего языка. Это было общее мнение.
– Во время придворного бала в Версале, – в свою очередь рассказал князь Куракин, – толпа придворных окружила короля. Тут же находился цесаревич, и на замечание Людовика XVI, что их теснят, великий князь сказал: «Извините, ваше величество, я в эту минуту считал себя за одного из подданных ваших и, подобно им, находил, что, чем ближе к вам, тем лучше».
Улыбка восхищения появилась на устах старых куртизанов, так был в стиле Версаля этот утонченный образец лести, напомненный Куракиным.
Опять помолчали, погруженные в сладкие воспоминания.
«Бриллиантовый» князь воспользовался минутой, чтобы перевести беседу на события дня. Лица всех выразили крайнюю озабоченность.
– Знаете ли вы, князь, – сказал Шуазель, – кому, собственно, ваш брат обязан немилостью? Граф Федор Головкин сумел представить планы Роберта Вуда своекорыстными…
– Граф Федор? Якобинец? Приятель Платона Зубова? А!… – слегка вскрикнул пораженный князь. – Да, да, – обращаясь к нунцию, продолжал он, – все Головкины – якобинцы. Но неужели вы не могли бы разъяснить вашему брату Юлию, приобретающему столь сильное влияние на императора, что наше общее дело – борьба с якобинством и восстановление потрясенных революцией основ общества – может пострадать, если происки таких лиц, как Федор, увенчаются успехом?
Молчавший до сих пор нунций пожал плечами.
– Мое влияние на брата ограниченно, – сказал он. – Тем более что он всецело поглощен орденом и своей женитьбой на вдове Скавронской.
– Он женится на Скавронской? На племяннице покойного Потемкина? И государь соглашается на этот брак?
– На днях графиня Скавронская, невеста моего брата, будет принята при дворе и даже включена в число особ высочайшей фамилии.
– Невероятно! – изумился князь Куракин. – Все, что связано с именем Потемкина, до сих пор было ненавистно императору! Графине пришлось покинуть столицу… А теперь!..
Нунций не сказал ничего на последнее восклицание князя, при всей придворной опытности сбитого с толку на этот раз неожиданностью события.
– Вы забыли, князь, – тихо напомнила Нелидова, – что покойный супруг графини Екатерины Васильевны – внучатый брат Петра III.
– Я должен вам сообщить нечто еще более важное, – сказал граф Шуазель. – Граф Бугсгевден посылается в его эстляндский замок Лоде.
Зловещее молчание охватило всех сидевших в гостиной.
Екатерина Ивановна вдруг решительно поднялась на красные каблучки. Тонкие брови ее свела глубокая морщинка.
– Теперь, когда честный Бугсгевден удаляется в изгнание, я знаю свой долг, – сказала она решительно. – Я должна разделить это изгнание с ним и с его женой, моей дорогой подругой. Да, князь, я согласна видеть вашего друга завтра на нашем монастырском празднике, но лишь для того, чтобы высказать ему мою уверенность, что он не воспользуется своей властью воспрепятствовать мне последовать за своей добродетельной подругой в ссылку, куда он ее отправляет!
– Но моя милая Екатерина Ивановна, – заговорил растерянно «бриллиантовый» князь, – такое заявление может вызвать крайний гнев государя. А вы знаете, что в припадках гнева он забывает все и… и вы напрасно кладете голову в пасть льва!
– Вы забыли, князь, что император – рыцарь, – сказала маленькая фаворитка. – Еще не было примера, чтобы он обошелся хотя бы только невежливо с дамой!
– Как? А его поступок с госпожей Жеребцовой? – возразил Куракин. – Говорят, она написала письмо к государю на другой день по восшествии его на престол. Письмо было прелестно. И что же? Император распечатал его, плюнул на бумагу и велел Кутайсову так отдать ей.
Нунций и граф Шуазель улыбнулись.
– Фуй, князь, как вам не стыдно передавать такую низкую сплетню! – в негодовании сказала Нелидова. – Возможно ли, чтобы император поступил так с письмом женщины, хотя бы это и была низкая куртизанка и сестра Платона Зубова!
– Однако Жеребцова сама рассказывала это летом и прибавляла, что не простит государю такого поступка с ней, – настаивал Куракин, озлобленный на то, что фантастическое решение старой монастырки губило все его надежды на завтрашний день.
– Если это сделал, то, вероятно, слуга, а не господин. Этот презренный Iwan способен именно на такую лакейскую выходку! Но… довольно об этом, князь! Мое решение вам известно, оно неизменно. Ибо это – мой долг. Дорогой граф, – обратилась она к Шуазелю, – вы хотели посмотреть мои рисунки, чтобы исправить погрешности вашим несравненным карандашом…
III
СЕРДЦЕ ФРЕЙЛИНЫ НЕЛИДОВОЙ
– Дорогая mademoiselle, – сказала, поднимаясь, принцесса Тарант. – Теперь я оставлю вас. Князь, – обратилась она к Куракину. – Вы не откажетесь проводить меня к госпоже Делафон?
– О, да, принцесса, я должен засвидетельствовать свое почтение высокой начальнице и воспитательнице прелестных монастырок! – отвечал князь.
Начались взаимные реверансы и поклоны.
– Идемте, князь, припомним былое прекрасное время с госпожой Делафон!
С этими словами старая статс-дама Марии-Антуанетты удалилась из покоев фрейлины Нелидовой.
Екатерина Ивановна между тем, передвигаясь быстро и неслышно на высоких каблучках, собрала рисунки и карандаши и все это представила на суд Шуазеля.
Это были виды различных мест: Павловска, Гатчины, Петергофа и Царского Села, пасторальные сцены к идиллиям французских поэтов и несколько изображений императора Павла Петровича в домашней обстановке.
Шуазель рассматривал с улыбкой неизменного восхищения рисунки и рассыпался в самых утонченных комплиментах.
Нелидова предлагала ему карандаши, но Шуазель отстранял их, уверяя с полной искренностью, как казалось, что поправлять в этих прелестных рисунках решительно нечего.
Он передавал рисунки нунцию, который с самыми разнообразными ужимками немой адорации на подвижном лице каждый раз, взглянув на бумагу, кланялся художнице.
Это привело Екатерину Ивановну в детский восторг. Забыв все горести, она весело улыбалась. Один из рисунков особенно заинтересовал графа. Он изображал лунную ночь, стремительно текущие воды реки, темные деревья над ней и обломленную колонну на берегу. В то время как другие рисунки с тщательной тушовкой и вырисовкой всех мелочей, казалось, были начерчены перышком беззаботной колибри, в этом изображении проявилась неожиданная сила скорбного выражения и движения.
– Это прекрасно! – сказал нунций.
Но Екатерина Ивановна поспешно взяла из его рук рисунок. Брови ее свелись, и опять набежала морщинка между ними.
– Ах, как попал сюда этот рисунок! – сказала она. – Это изображение ужасного призрака моего несчастного детства! Ses eaux si bien ombragеes d'arbre toufus qui effrayaient mon enfance!.. Это река в смоленском селе, нашем, Климятнине, с глубокими, черными стремительными водами, с мрачными старыми, тенистыми деревьями. Мне рассказали о духах, живущих в черной воде… Как это? Водяники, седые, злые старики и девушки с зелеными волосами, которые завлекают прохожих и топят их… И там была еще одна несчастная – крестьянская девушка, лишившаяся рассудка от жестокого обращения своих господ. Она часто бродила в речных тростниках, плакала и хохотала… Ах! И теперь часто мне снится все это и я просыпаюсь с бьющимся сердцем, в слезах!..
Другие электронные книги автора Николай Александрович Энгельгардт
Другие аудиокниги автора Николай Александрович Энгельгардт
Калиостро




 4.67
4.67