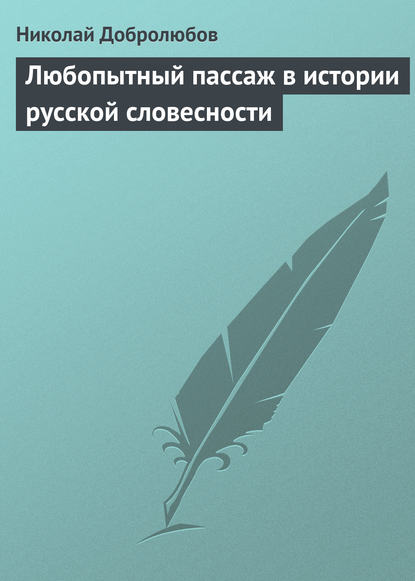По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любопытный пассаж в истории русской словесности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любопытный пассаж в истории русской словесности
Николай Александрович Добролюбов
Статья выражает одну из особенностей реальной критики Добролюбова, которой, по его словам, необходимо придать «практический характер». Повод для статьи – привлекшая внимание различных общественных кругов открытая дискуссия о деятельности акционерного общества пароходства и торговли, состоявшаяся в петербургском зале Пассажа 13 декабря 1859 г. Статья Добролюбова написана в пародийной, фельетонной манере. Диспут с претензией на гласность, на публичное выяснение истины Добролюбов представляет «литературным турниром», литературно-театральным действием, не случайно потерпевшим фиаско. Статья разоблачает демагогическую суть гласности, не подкрепленной реальными делами.
Николай Александрович Добролюбов
Любопытный пассаж в истории русской словесности
Ах, какой посаж![1 - Добролюбов прибегает к просторечной форме – «посаж», что было и в рукописи, и в журнальном тексте (см.: V, 610, примеч. 1).]
(«Ревизор»)
13 декабря 1859 года запишется неизгладимыми чертами в истории русской словесности. Этот день доказал неоспоримо, что правила языка и слога действительно занимают во всех наших общественных вопросах первое и важнейшее место. – На язык, слог и даже шрифт устремляется всеобщее внимание; они делаются предметом гласных обсуждений, на которые стекаются многие сотни образованных людей – цвет нашего общества. О, какое великое дело язык, слог и шрифт!.. Мы убедились в этом, сидя в зале Пассажа 13 декабря сего года!..
Читателям нашим, конечно, известно из газет, что 13 декабря происходил в зале Пассажа литературный турнир между гг. Перозио и Смирновым. Но, может быть, не всем известна сущность и цель турнира…
«Помилуйте! За кого же вы нас принимаете, – восклицают читатели (не бывшие на знаменитом заседании). – Разве мы ничего не читаем, разве не интересуемся общественными вопросами или не умеем понимать того, что читаем?.. Разве не ясно высказана была цель устного состязания в вызове г. Перозио, в 261-м номере «С.-Петербургских ведомостей»? Г-н Перозио обличал Общество русского пароходства и торговли, а г. Смирнов защищал его; оба вооружались цифрами и фактами, и оба объявляли, что цифры и факты противника произвольны. Тогда г. Перозио и сказал: «Этак мы будем, пожалуй, спорить до бесконечности и все-таки не объясним публике настоящего положения дела. Но еще масса публики, положим, не так сильно заинтересована нашим спором, чтобы добиваться во что бы то ни стало – узнать, кто прав, кто виноват. Есть еще довольно обширный круг людей, интересующихся специально тем делом, о котором мы рассуждаем; это – акционеры Общества русского пароходства и торговли. Мы с разных сторон приступаем к ним, и я говорю: ваше дело идет плохо, а г. Смирнов говорит: напротив, – оно идет отлично… Оба мы подтверждаем свои уверения фактами и цифрами; но этой письменной полемики очень недостаточно для полного уяснения дела, и акционеры, не имеющие под руками всех данных, какие можем иметь мы, продолжают оставаться в недоумении, чему верить. Чтобы окончательно разъяснить дело, чтобы рассеять это недоумение, чтобы решительно убедиться и убедить других, каково же, наконец, положение дел Общества пароходства и торговли, – нам лучше всего сойтись и объяснить словесно, в присутствии посредников и публики. Тогда в несколько часов мы выскажем гораздо больше, нежели могли бы написать, споря друг с другом, в несколько месяцев, – и дело объяснится. Я готов публично доказывать свое положение, – что дело нехорошо, г. Смирнов пусть доказывает, что оно хорошо…» «Вот что говорил г. Перозио, – прибавляют читатели, – неужели же после этого еще вы полагаете, что у нас недостанет здравого смысла сделать вывод: цель состязания г. Смирнова с г. Перозио заключалась в том, чтобы раскрыть настоящее положение дел Общества русского пароходства и торговли».
«О, наивность! О, Аркадия! – восклицаем мы… – Да с чего же вы это взяли, почтенные читатели? На каком основании вообразили вы, что тут речь идет о делах? С какой стати примешали вы тут какое-то Общество русского пароходства и торговли?.. Вы ужасно ошиблись, понявши дело в таком виде. Вы сами сочинили слова, приписанные вами г. Перозио…»
«Однако же позвольте, – прерывают читатели. – Вот вам подлинные слова г. Перозио из 261-го номера «С.-Петербургских ведомостей». Прочитайте:
Тут дело еще не в массе читателей; мы спорим в виду читателей, так сказать, специальных, под которыми я понимаю акционеров Общества русского пароходства и торговли. Людям этим, положившим свои капиталы в предприятие и ожидающим от него великих и богатых милостей, мы доказываем: я – что дела Общества в плохом положении и что г. директор-распорядитель сообщает публике самые неверные сведения о ходе их; вы – что все это идет прекрасно и что я бессовестно лгу. У нас обоих в руках цифры, мы обвиняем, по-видимому, неголословно. Итак, гг. акционеры общества должны стоять между страхом и надеждою; так не лучше ли разом – или уничтожить этот страх, или рассеять надежды? Перепискою или печатною полемикою мы никогда не уясним как следует дела, да и, согласитесь, – надоедим читателям и собьем окончательно с толку акционеров, чего – не знаю, как вы, г. Смирнов, а я решительно не желаю. По-моему, вопрос об обвинении кого-нибудь в недобросовестности или неправильности действий и т. п. – вопрос юридический; так почему бы нам не применить здесь систему гласного судопроизводства, которого все мы так добиваемся?
«Вот слова г. Перозио, – продолжают читатели, не бывшие в заседании, – как же можно понимать их, как не в том смысле, который мы в них нашли? Обратите на них внимание, разберите их: ясно, что г. Перозио желает раскрыть дело, объяснить, подтвердить и дополнить свои показания, разрешить сомнения, которые могли быть возбуждены его статьями, и пр. Устное объяснение предположено им как продолжение полемики о делах Общества русского пароходства и торговли, взамен тех новых статей, которые мог бы он, равно как и г. Смирнов, писать до бесконечности по этому предмету…»
Некоторым может показаться справедливым вывод провинциальных читателей. Может быть, он и действительно имеет некоторую основательность с точки зрения деловых людей. Но мы в качестве чистых литераторов никак не можем признать в нем ни капли основательности… Мы не знаем, как доказать свое мнение; но подражая г. Серно-Соловьевичу[2 - Н. А. Серно-Соловьевич, близкий в то время к революционно-демократическим кругам, был известен разоблачительными материалами о деятельности компании «Сельский хозяин». См. отклики: «Акционерное общество», «Сельский хозяин» (Журнал для акционеров, 1859, 8 октября. Прибавление), «Настоящая причина перенесения общего собрания акционеров «Сельского хозяина» с 15 на 30 октября» (СЛбВед., 1859, № 223) и др. Отклики на эти выступления см.: БдЧ, 1859, № 11 – «Современная русская летопись»; Совр., 1859, № 11 – «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». В диспуте 13 декабря Серно-Соловьевич выступал на стороне члена правления «Русского общества пароходства и торговли» А. И. Смирнова. Добролюбов и до диспута иронически оценивал публицистические выступления Серно-Соловьевича (см.: Свисток, № 3; VII, 375–378). Не случайно обращение Чернышевского в письме к Добролюбову от 7/19 февраля 1861 г.: «Вы сделали бы мне великую радость – полюбили бы Серно-Соловьевича! Увы, не смею надеяться этого!» (Чернышевский, XIV, 423).], не унываем и кричим очень громко: «Дело в том, господа читатели, что в статье г. Перозио нет именно тех слов, какие вы говорите. О дополнении показаний, о представлении защиты дела – там не сказано, а сказано только: «Я готов доказать всю истину показаний, деланных мною до сих пор…» Мы должны придерживаться буквы того, что написано… А те заключения, которые вами, читатели, представлены, – вы сами вывели. Верно ли вы их вывели, – это другой вопрос, который сюда не входит; а главное то, что в статье г. Перозио нет тех слов, которые вы говорите… Следовательно, вы неправы…»
Отделавшись, таким образом, от читателей, мы чувствуем, что у нас на душе стало легче. Мы проникаемся великодушием и говорим (опять подражая г. Серно-Соловьевичу): несмотря на то, что мы вас совершенно разбили, читатели, – вы признаетесь правыми. Действительно, первоначально в статье г. Перозио мог быть тот смысл (и даже, по правде говоря, не мог не быть), – что устное объяснение назначается для удобнейшего раскрытия положения дел Общества пароходства и торговли. Но видите ли, в чем дело, аркадские наши читатели. Нужны были посредники для состязания: г. Смирнов пригласил В. А. Жемчужникова, Н. А. Серно-Соловьевича и В, И. Шульца; г. Перозио пригласил – В. А. Полетику[3 - Добролюбов благосклонно отнесся к участию в диспуте на стороне Перозио В. А. Полетики, уже тогда известного своими публичными выступлениями горного инженера, экономиста. А. В. Никитенко в другое время отмечал живость, легкость, разумность его выступлений (см.: Никитенко А. В. Дневник в 2-х томах, т. 2. М., 1955, с. 475–476).], Г. З. Зубинского и П. В. Соловцова. Президентом заседания, или суперарбитром, как сказано в программе, приглашен быть Е. И. Ламанский. При самом объявлении о выборе посредников г. Смирнов, неизвестно по каким причинам, перенес спор в сферу более возвышенную и более достойную ученых и литературных деятелей, принявших участие в деле. Г-н Смирнов объявил, что, собственно, спорить не о чем, предмет бесспорный, но что он желает сделать г. Перозио публичный экзамен в первых четырех правилах арифметики. Для этого он обещал вооружиться: отчетом общества, статьею г. Новосельского и «Арифметикой» Меморского[1 - Плохая «Арифметика», более притупляющая, нежели развивающая сообразительность учеников; но г. Смирнов упомянул именно о ней – может быть, потому, что сам по ней учился.][4 - Меморский М. Ф. Арифметика в вопросах и ответах, расположенная по новейшему методу, в двух частях, для легчайшего обучения детей. Очередное издание вышло в 1859 г. М.]. Отчет и статья, очевидно, нужны были затем, чтобы было – откуда брать задачи для г. Перозио; «Арифметика» же Меморского… для того, вероятно, чтобы г. Смирнову справляться в ней, если что позабудет… Иначе ее незачем было бы и брать: ведь ученикам на экзамене не позволяется в книжку заглядывать… Впрочем, это мы мимоходом только заметили; г. Смирнов объявил себя экзаменатором, – так, разумеется, ему и книги в руки… Но главное для нас – следующие соображения, которые сейчас же и докажут ошибку читателей, предполагающих, что в Пассаже 13 декабря собирались толковать о деле.
Всякий согласится, что учебник Меморского имеет весьма слабое отношение к деятельности Общества русского пароходства и торговли. Что он за документ? Какие в нем данные о делах Общества? Ясно, что уже в самом «Ответе на вызов» г. Смирнова указывается другая цель состязания, не материальная, не меркантильная, а высшая, ученая. Вопрос перенесен в сферу первых четырех правил арифметики; что же касается до дела, то о нем и говорить не стоит, по мнению г. Смирнова. Он находит странным, что г. Перозио хочет еще каких-то устных рассуждений, и приглашает всех желающих быть свидетелями публичного экзамена г. Перозио, но никак не рассуждений о делах.
Могут сказать, что ведь вольно же было г. Смирнову понять дело таким образом. Могут заметить, что такой оборот дела даже не делает особенной чести г. Смирнову, потому что доказывает его несостоятельность в вопросе о деле, которое взялся он разбирать. Если бы он знал дело, скажут наивные читатели, – то должен был бы ухватиться за случай разъяснить его. В вызове г. Перозио была, конечно, фраза и о том, что он будет доказывать свои прежние положения; но весь смысл вызова говорил в пользу прений о положении дел Общества. И ежели г. Смирнов весь этот смысл оставил в стороне, а придрался лишь к одной фразе в вызове г. Перозио, то он доказал этим, что не пошел далее «Арифметики» Мсморского. Но в таком случае ему вовсе не следовало браться за указание неверностей в статьях г. Перозио, или взяться, но тут же и объявить, что самого дела он, г. Смирнов, не понимает и не может сказать, прав ли г. Перозио в сущности, а только хлопочет о восстановлении попранных прав арифметики в качестве школьного учителя. Тогда г. Перозио, конечно, не стал бы и вызывать его на спор, потому что смешно же прибегать к гласному судопроизводству и решать по большинству голосов, что, например, 35–5 = 30…
Все это, может быть, и правда. Но дело в том, что не один г. Смирнов, а и сам г. Перозио склонился потом на то, чтоб предметом прений сделать арифметику. Если бы он хотел действительно рассуждать о делах, то он, конечно, на приведенный выше ответ г. Смирнова должен был бы возразить так: «Я вам предлагаю объяснить и доказать публично мои показания, во избежание дальнейшей полемики; а вы в ответ на это бросаете мне в лицо пошлые и оскорбительные остроты – или умышленно, или по недостатку сообразительности не понимая, чего я хочу. Честь имею вам объявить, что экзаменоваться у вас из первой части арифметики я считаю совершенно ненужным, а приглашать на это публику – унизительным, не столько для меня, сколько для вас и для нее. Ответ ваш я принимаю за уклонение от серьезного, публичного рассуждения и вследствие того имею право взять назад свой вызов до тех пор, пока вы не выкажете большей вежливости и благоразумия. Что же касается до ваших оскорбительных фраз, относящихся лично ко мне, то о них мы с вами можем объясниться и без публики».
Так, без сомнения, ответил бы г. Перозио, если бы он имел намерение рассуждать о делах; по крайней мере всякий согласится, что именно такой ответ предписывается человеку в подобных случаях всеми правилами чести и благоразумия. Но г. Перозио весьма скромно напечатал в 267 № «С.-Петербургских ведомостей», – что он «с должною благодарностью принимает согласие г. Смирнова выступить на публичный спор с ним для окончательного решения вопросов, изложенных в протесте его против статьи г. Новосельского». Здесь еще есть упоминание об окончательном решении вопросов; но из самого согласия г. Перозио видно, что он и сам уже начинает смотреть на вопрос не с деловой, а с литературной точки.
Вслед за тем дело повертывается уже решительно в пользу словесности. Да и нельзя иначе: в числе посредников находился г. Серно-Соловьевич, из уст которого (как мы уже замечали недавно) так и вырезывается красноречивый карамзинский стиль… Сей юный литературный деятель не мог оставаться, и не остался, – как видели мы в заседании, – равнодушным к вопросам стиля и даже шрифта. И его ревности благоприятствовала вся программа состязания. Целью ее была постановлена – «поверка г. Смирновым фактов, цифр и выводов г. Перозио в статье «Протест против статьи г. Новосельского»«. Из этого ясно, что не только сам г. Перозио, но и его посредники согласились смотреть на состязание как на чисто ученый и литературный спор. Даже больше – они согласились смотреть на все дело как на урок из арифметики, данный г-ну Перозио, самим его посредникам и всей публике. Иначе – зачем тут замешалось бы личное присутствие г. Перозио, зачем даже посредники? Статья г. Перозио напечатана; г. Смирнов возразил на нее тоже печатно. Дело все в цифрах и положительных данных, да и не в изменении их, а в простой арифметической поверке… На что же тут нужен г. Перозио? Просто бы пригласить как можно больше народу, да и прочесть им лекцию о недобросовестности г. Перозио и о слабости познаний его в арифметике. Да, пожалуй, и этого не нужно было, потому что на устное совещание нельзя же пригласить столько народу, сколько найдется читателей для статей, напечатанных против г. Перозио… Очевидно, что присутствие г. Перозио нужно было только в двух случаях: или – ежели он и его посредники могли в подкрепление своих прежних показаний представлять новые объяснения, данные и соображения, – но этого не было; или же в том случае, если ему следовало прочесть наставление относительно занятий арифметикою, – это и было, как положительно заявлено и в «Ответе» г. Смирнова и в самом начале «Условий» состязания.
Таким образом, мы, на основании печатных документов, можем уже положительно заявить нашим читателям, что они жестоко ошибаются, если считают целью собрания 13 декабря – раскрытие дел Общества русского пароходства и торговли… Нет, по мнению г. Смирнова, отвергшего вызов г. Перозио говорить о делах, – столь низкая, материальная цель была бы, конечно, недостойною первого опыта устного судопроизводства у нас! Тут была цель высшая, так сказать невещественная: суждение о литературном и ученом (то есть арифметическом) достоинстве статей г. Перозио. В этом последнем мы убедились, присутствуя при состязании, и потому поспешим рассказать о нем.[2 - В нашей заметке нет никаких цифр и исследований о сущности спора гг. Перозио и Смирнова; мы говорим лишь об общем характере турнира. Что же касается до цифр, то об этом мы, может быть, представим особую статью[10 - Такая статья не была написана.].]
До 600 человек наполнили залу Пассажа в полдень 13-го числа. Умилительно было видеть это всеобщее сочувствие к литературе, возбужденное в массах столичного населения. «Боже мой, – думали мы, – давно ли было то время, когда не интересовались тем, что пишут о Гоголе, когда не знали имени Белинского! А теперь – какая перемена!.. Что за литературные деятели гг. Перозио и Смирнов? Один нашел несколько недомолвок и недоразумений в отчете акционерной компании; другой написал о нем, что, ловя чужие ошибки, он и сам наделал арифметических промахов… И вот все их права на знаменитость… А между тем зала полна! Все хотят слышать решение, кто из двух противников более отличается точностью слога, кто глубже проник в тайны первых начал арифметики – г. Смирнов или г. Перозио… Красноречивые и остроумные литераторы приглашены к посредничеству; знаменитый русский ученый председательствует при этом литературном споре… Умилительное зрелище!..»
Но вот суперарбитр произносит торжественную речь, в которой старается внушить публике надлежащее благоговение к предстоящему зрелищу. Он упрашивает ее сохранять строгое молчание, дабы выражением одобрения или неудовольствия не влиять на решение посредников относительно того, кто из спорящих вернее складывает. Он говорит, что самим своим безмолвием публика будет импонировать на их добросовестность в разрешении, по большинству голосов, вопросов о том, что больше – 30 или 20, или о том, действительно ли выйдет 30, если 286 вычесть из 316, и т. д. Затем начинаются прения.
Г-н Смирнов излагает свои обвинения. Потом, по вопросу суперарбитра, г. Перозио представляет свои положения по первому пункту (а всех их – 13), г. Смирнов возражает; после того посредники начинают рассуждать. Со стороны г. Смирнова преимущественно действует г. Серно-Соловьевич; со стороны г. Перозио – г. Полетика. Спор ведется очень литературно со стороны г. Серно-Соловьевича. Доказательством служит уже то, что вопрос о правильности сложения цифр 20 + 10 + 5 и вывода из них – 35, – поддерживался им почти три четверти часа!.. Можете себе представить, как широко было его красноречие и как велико адвокатское искусство!.. Но, к сожалению, г. Полетика с первого же раза обнаруживает удивительное равнодушие к литературным интересам и старание свести речь на сущность дела… Ему, конечно, указывают на программу, которую он же сам подписал и в которой говорится, что суждение должно идти вовсе не о деле, а о достоинстве статьи г. Перозио. По первому пункту (о числе пароходов) г. Перозио признается неправым, потому что в статье его действительно оказывается обвинение в утайке цифр, которые не были утаены.
Затем идет второй пункт – о распределении пароходов на речные и морские. Тут пошла речь об основаниях распределения; но оказалось, что этот вопрос выходит из пределов программы, ибо касается технических соображений, которых решено не касаться. Решение это сделало, как напечатано в «Условиях», посредниками г. Перозио, и между прочими – г. Полетикою. Посредники же г. Смирнова сами предлагали – рассуждать и о технических вопросах. Хотя они вопросов этих и не понимали, как неоднократно признавались в заседании, – но что до этого! На их стороне было всесокрушающее красноречие г. Серно-Соловьевича. Если он о 30 и 20 ораторствовал более получаса, то чего бы не наговорил он, если бы дело коснулось вопросов технических!.. Но как бы то ни было – второй пункт остался в стороне. Тут чей-то невежливый голос раздался сверху: «Так уж лучше бы и все оставить в стороне». Но публика встретила этот голос шиканьем, и тишина немедленно восстановилась.
Приступили к третьему пункту. Но тут уже началось совершенное торжество ораторского искусства и литературных воззрений. Б последующих пунктах многое зависело от «опроса о распределении морских и речных пароходов, так как г. Перозио делает выводы из сличения цифр «Сравнения», относящихся к одним морским пароходам, с цифрами «Отчета», относящимися ко всем пароходам вообще. Если бы рассуждали о деле, то, конечно, второй вопрос нужно бы выяснить совершенно; но для литературного спора вопрос этот оказался неважным, и его оставили без решения. Зато и вышел весьма важным третий вопрос – «о количестве пройденных миль». Здесь г. Серно-Соловьевич в течение четверти часа занимал собрание весьма глубокими и красноречивыми рассуждениями о шрифте, каким напечатано замечание г. Перозио о милях. Весьма одушевленно и с чрезвычайною твердостью ораторствовал он о курсиве и пускался в весьма тонкие соображения о том, что хотел г. Перозио сказать курсивом. Но, к несчастью, г. Полетика не сумел оценить и этих благородных усилий на пользу ораторского и отчасти типографского искусства. Он возразил г. Соловьевичу: «Да что нам рассуждать о том, что хотел сказать г. Перозио своим курсивом? Ведь г. Перозио здесь: спросим его лучше». Какой странный человек этот г. Полетика! Оно, конечно – лучше; да для чего лучше? Для дела, а уж никак не для ораторского искусства г. Серно-Соловьевича. Впрочем, г. Перозио так, кажется, и не спросили, и он по пункту с курсивом – оставлен в подозрении[3 - Г-ну Серно-Соловьевичу представляется удобный случай рассудить: что значит у нас курсив в этом месте?].
Далее пошел вопрос о топливе. Найдено, что г. Перозио промахнулся здесь, не выведши пропорции антрацита с углем. Но тем не менее г. Полетика доказывал, что цифры, приведенные г. Новосельским и критикуемые г. Перозио, – неверны. Он, очевидно, никак не хотел стать на школьно-литературную точку зрения, которая ясно определена была «Условиями»; подписавши вместе; с другими эти «Условия», он в самом заседании, против всякого ожидания г. Смирнова и его посредников, вдруг вообразил себе, что нужно вести речь о деле, и на этом основании упорно пытался доказывать – не то, что статья г. Перозио очень хорошо написана, а то, что сущность дела все-таки с нею согласна, а не с уверениями г. Смирнова. Г-н Полетика дошел до того, что стал требовать от противной стороны категорического ответа: «Буду ли я прав, если докажу вам, что эти цифры отчета неверны?» Разумеется, ему не дали категорического ответа, потому что это значило бы перенести вопрос с арифметически-литературной арены на арифметически-деловую… Г-н Серно-Соловьевич с замечательным ораторским искусством уклонился от категорического ответа. Он начал немедленно какую-то длинную речь, которая начиналась словами: «Вы смешиваете…» Далее мы отчасти не слыхали, потому что за этими словами раздался в публике дружный смех, – а отчасти и позабыли, потому что вообще не богато одарены памятью слов… Помним только, что речь г. Серно-Соловьевича была очень красноречива, хотя он и говорил иногда одно слово вместо другого, как, например, однородные вместо разнородные, мильоны вместо тысячи и т. п. Но это объясняется тою поспешностью, С которой г. Серно-Соловьевич стремился излить потоки своего красноречия.
Но при шестом или седьмом вопросе сам г. Перозио оказался человеком, которого мало занимают интересы русской литературы и самой «Арифметики» Меморского. (Да и не мудрено: судя по фамилии, он должен быть из иностранцев!) Прежде ответа на данный ему вопрос он выразил свое неудовольствие на то, что не принимаются во внимание никакие соображения сверх тех, которые были в его статье. «Если вы будете судить только мою статью (в этом смысле сказал г. Перозио), то я здесь – лишний человек; вы можете это и без меня делать. Если же вы хотите от меня объяснений и доказательств, то не оставляйте в стороне тех фактов, которые вам представляются теперь мною и моими посредниками». Но на это было замечено, что претензия г. Перозио неосновательна: ему дают полную возможность защищаться; но то, чего нет в его статье, не должно быть принимаемо во внимание по смыслу самой программы состязания, на которую он согласился. И действительно – подписывая условия, г. Перозио должен был видеть, что тут предполагается вести речь об его статье, что ему хотят дать урок, сделавши поверку его чисел и указавши его неверности… Более тут ничего не требовалось, и г. Перозио должен был покориться своей участи, если уж раз поставил себя в такое положение. Он мог, не сочувствуя нашей словесности и нашему стилю, не выходить на спор в таких пределах; но если уж раз согласился, то должен был безропотно вынести все ораторское искусство г. Серно-Соловьевича.
Гораздо в большей степени то же самое нужно сказать и о г. Полетике: он выказал не только преступную наклонность говорить о деле, когда его противники вели речь о литературных приемах г. Перозио, – но и недостаток сочувствия к установленной форме. По форме «Условий», гг. Перозио и Смирнов «не имеют права речи более одного раза после каждого вопроса программы». Между тем в одном вопросе, после речи г. Перозио, возбудились какие-то новые недоумения; г. Полетика сказал, что он этого не может хорошо объяснить, но что г. Перозио просит дозволения сам сказать еще несколько слов в свою защиту. Посредники противной стороны, как видно, привыкшие все делать по чину и по форме, отказали г. Перозио в этом дозволении… И они были совершенно вправе, разумеется: когда уж раз что написано, то как же можно это отменять, хотя бы и по взаимному соглашению! У нас, говорят, бывали случаи, что и мировые сделки не разрешались, по несоблюдению некоторых формальностей. Да оно так и следует… А то что ж за порядок будет?..
Но г. Перозио, очевидно, позабыл, что вышел пред публикою в качестве экзаменуемого школьника, и потому все не угомонился: при следующем ответе он опять заявил свое неудовольствие, прибавив, что он, по невозможности защищаться, готов сейчас же признать себя виноватым, только чтоб ему дали защитить его последний пункт. Но на это не согласились противники, и суждение продолжалось, впрочем – увы! – ненадолго… Одна из реплик г. Полетики вызвала громкие рукоплескания и крики «браво!». Тогда г. Полетика, обратившись к противникам, сослался на одобрение публики как на факт, дающий ему право на большее внимание противников к его словам. Заметно, он был даже раздражен тем, что литературные приемы г. Перозио стоят в обсуждении посредников на первом плане, а самое дело – далеко на втором… Вслед за тем и г. Перозио объявил, что он признает себя неправым и более защищаться не желает… Произошло некоторое недоумение… Но тут встал суперарбитр, г. Ламанский, и произнес краткое слово о том, что публика, вопреки предварительным условиям и просьбе его, суперарбитра, не удержалась в должных пределах и громко высказывала свое неодобрение или одобрение. В этом г. Ламанский был, разумеется, совершенно прав, особенно если взять дело опять-таки с ораторской точки зрения. Конечно, крики: «браво!», «нет», «да», рукоплескания, смех и т. п. бывают во всех возможных парламентах; следовательно, вообще говоря, тут еще со стороны русской публики особенного неприличия не было… Но это только вообще… А надо взять дело в частности: надо вспомнить, что ведь зато в парламентах никогда и не обсуждали столь возвышенных вопросов, как в знаменитом заседании 13 декабря. Вопрос об ученых достоинствах статей г. Перозио и г. Смирнова требовал, конечно, от присутствующих гораздо большей дозы благоговения, нежели всевозможные парламентские прения. Другое дело, если б речь шла о низких, материальных предметах – о положении дел Общества пароходства, – ну, тогда публике могло бы быть и повольготней… А с другой стороны, и то надо сказать: где же и ораторы такие бывают, как у нас? Англичан хвалят; да ведь у них зато и предметы-то такие, что всякий может говорить. А заставьте-ка любого из них поговорить – хоть, например, о курсиве; ни один против наших не выйдет… Так и надо это ценить, и благоговейную тишину соблюдать!..
Публика поняла это, по-видимому, очень хорошо.[5 - В рукописи далее шел текст, в котором более резко противопоставлены выступления «посредников» – Н. А. Серно-Соловьевича и В. А. Полетики: «…в первый раз видели мы действие словесного суда не только на подсудимых, но и на самих судей и на всех присутствующих. Каждый из нас видел, что подсудимые излагают свои показания прямо и положительно, без утаек и крючков, столь обычных в нашем письменном судопроизводстве. В самих посредниках мы видели сознание важности их дела и добросовестное стремление прийти к истине. Если г. Серно-Соловьевич ораторствовал о шрифтах и приводил аллегорические доводы, а г. Полетика толковал о таких цифрах отчета, против которых ничего не говорилось в статье г. Перозио, – так это уж происходило от существенной разницы в складе их ума и в самых основных понятиях. Г-ну Полетике не важно было то, оправдаются ли частные фразы статьи г. Перозио: он хотел защитить только существенный смысл его статьи, – то есть, что дела Общества пароходства действительно не соответствуют тому блестящему положению, какое им придано в «Отчете» и «Сравнении». Г-ну Серно-Соловьевичу, напротив, казалось важным именно то, чтобы сокрушить каждую фразу статьи г. Перозио; а в каком положении само дело, до этого он вовсе не хотел касаться. Об остальных посредниках мы не говорим, потому что их участие было довольно бледно. Но тем не менее обо всех их нужно сказать, что каждый из них (разумеется, по мере сил и способностей) старался отклонить от себя малейшую тень недобросовестности. Кто не знал дела и не имел ничего сказать, тот молчал; кто был уличен в ошибке, тот не изворачивался, а старался объясниться. Разумеется, по самой разнице основных воззрений на вопрос г. Серно-Соловьевич не мог, например, понимать некоторых, весьма ясных вещей, предлагавшихся г. Полетикою. Но видно было, что и это непонимание совершенно искренно, простодушно и не заключает в себе никакой преднамеренности» (V, 610). В журнальную публикацию не вошло.] В глубоком молчании выслушан был многочисленным собранием очень тихий голос председателя, а вслед за тем раздались крики: «Продолжать заседание!..» Г-н Полетика взял было каску и хотел уже идти вон, г. Перозио собрал свои бумаги; но публика кричала: «Назад! назад! Неуважение!..» Видно было, что на это время публика забыла и литературные, высшие интересы и материальную сторону дела; она сделалась равнодушною к обеим партиям; ей хотелось одного: чтобы начатое дело было докончено. В первый раз еще присутствовали мы все при подобном обсуждении дела, хотя и арифметического; и многие думали, что это заседание может послужить началом для других, которые будут уже не столько смешны по своей сущности и не так бюрократичны по форме. Поэтому-то все присутствующие с удивительным терпением выносили, как пред ними делали сложение, вычитание, как отклоняли от рассуждения все реальные вопросы (очень важные для людей, не доросших до понимания высших ораторских наслаждений) и т. п. Многие находили даже, что как ни плохо спелись обе стороны, но все-таки из их рассуждений дело отчасти выясняется, и, во всяком случае, выясняется больше, нежели посредством целых груд канцелярской переписки. Кого интересовало дело, тот почувствовал возможность узнать о нем кое-что из возражений г. Полетики; кого занимало литературное достоинство статей г. Перозио, тот убедился в недостатке их ловкости и точности из положений г. Смирнова и некоторых замечаний г. Жемчужникова; а кому любопытно было слышать звонкую ораторскую речь, тот нашел полное удовлетворение, слушая г. Серно-Соловьевича. Итак, все желали, чтоб заседание дошло до конца и заключилось добрым порядком. Поэтому, когда после замечания г. Ламанского все умолкли и г. Серно-Соловьевич начал торжественным тоном какое-то великодушное объяснение относительно своих противников и громкое восхваление достоинств суперарбитра, а посредники г. Перозио, не желая дослушивать его, собрались уходить, то публика сама выразила неудовольствие на такой беспорядок – закричала «назад!» и требовала продолжения заседания. Во многих углах раздались обещания, что мы теперь будем сидеть смирно, пальцем не пошевелим и пр. … Среди этого смятения вдруг раздался звонок; все смолкло, и тихий голос суперарбитра объявил успокоившейся публике, что заседание закрыто…
Если бы дело гг. Перозио и Смирнова решилось тем, что они оба правы, а виноваты все присутствующие, – это не столько бы поразило публику, как внезапное прекращение заседания. Началось общее смятение; одни отчаянно пожимали плечами, другие как-то съежились и опустились…
Некоторые пришли тотчас к заключению, что штука эта еще на десять лет отдалила у нас гласное судопроизводство! Даже г. Ламанский, конечно[6 - Вместо предыдущей фразы и слов «Даже г. Ламанский, конечно» в рукописи шел следующий текст: «Но нас особенно тронуло одно зрелище: двое молодых людей стояли посреди залы и крепко жали руки друг другу; один из них со слезами на глазах говорил другому: «А знаешь ли ты, что эта штука еще на десять лет похоронила у нас гласное судопроизводство!» – «Но неужели ж они будут столько тупоумны, что не разберут, в чем дело?» – отвечал другой с каким-то отчаянием: видно было, что он сам не верил тому, чем старался утешить себя…Бедные молодые люди!.. Они ведь в самом деле принимали ату штуку за начало гласного судопроизводства в России, они ожидали от нее хороших результатов! Как много веры в них, бедных, и как рано приходится им испытывать горькое разочарование! Впрочем, они утешатся довольно скоро: они, вон, полагают, что нельзя быть столько тупоумным, чтобы из этого опыта вывести заключение о неприменимости гласного судопроизводства в России! Да разве тут степень разума или тупоумия определяет дело? Вовсе нет: тут действует страсть, выгода, интрига и тому подобные мотивы. Кто же назовет тупоумным г. Ламанского? А между тем он…» (V, 611).], допустивши себя увлечься минутным раздражением, объявил, будто сегодняшнее заседание показывает, что «мы еще не созрели для этой формы судопроизводства»[7 - По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, эти слова Е. И. Ламанского «наделали в свое время много шума и вызвали бесчисленные протестации» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 233). Во время диспута 19 марта 1860 г. о происхождении Руси М. Н. Погодин заявил: «…мы созрели для решения нужных и важных для нас вопросов» (Отчет о диспуте гг. Погодина и Костомарова 19 марта 1860 т. – СПбВед., 1860, № 67, 25 марта). Добролюбов обыгрывал то и другое заявление в своей сатире «Наука и свистопляска» (Свисток, № 4; VII, 394–416).]. Если он это чувствовал сам – ибо не мог сохранить полного спокойствия и ровного присутствия духа, – то он в своем сознании совершенно прав со своей стороны; но он неправ, перенося это сознание на публику. Публика желала, требовала, даже просила продолжения заседания; гг. посредники г. Перозио не могли уйти против воли председателя; он мог и должен был удержать их во что бы то ни стало или по крайней мере закончить дело спокойно и беспристрастно, не давая г. Серно-Соловьевичу разглагольствовать о достоинстве суперарбитра и пр. и не давая г. Полетике разгорячаться пред самым концом дела… И если г. Полетика прежде всех сделался виноватым в нарушении заседания, то г. Ламанский после всех остается в нем виновным.
Впрочем, собственно говоря, тут никто не виноват, кроме тех, которые хотели здесь видеть что-нибудь более, чем стилистические упражнения, вроде бывавших в старые годы семинарских диспутов. Не всякий спор в присутствии большого общества может быть назван гласным судопроизводством, так же как не всякое обсуждение статьи, трактующей об акционерной компании, – рассуждением о делах этой компании. Некоторые из участвовавших в деле действительно с большим ожесточением трубили о том, что вот, дескать, они затевают первый опыт гласного судопроизводства в России. Но они, очевидно, и понятия-то о нем не имели, и не пошли дальше названия. Они же сами не раз повторяли в заседании, что пришли решать арифметические задачи… по большинству-то голосов: какое милое понятие о назначении гласного суда! Как сильно выразилась тут русская привычка к тому, чтобы произвол личный становился выше непреложных начал логики и даже арифметики!.. Но, впрочем, в заседании голосов не собирали и чрез то нарушили форму, которой так неуклонно старались держаться в других пунктах. Да и как было собирать голоса, когда посредники, долженствовавшие быть судьями дела, внезапно, к великому удивлению публики, оказались адвокатами. В самых рассуждениях с начала до конца господствовала удивительная неопределенность, и вследствие того – когда одна сторона начинала речь про Фому, другая отвечала ей непременно про Ерему. И ни в посредниках, ни даже в самом суперарбитре мы не нашли полного приготовления к прямому ведению спора; в некоторых из посредников незаметно было даже вовсе никакого приготовления. Оттого вместо дельных замечаний, которые могли бы быть полезны для акционеров, мы слышали здесь словоизлития по поводу того, оговорено или не оговорено в статье такое-то замечание, каким шрифтом напечатана такая-то фраза, и т. п. На улики о том, что нет такой-то цифры в таком-то месте «Отчета», мы слышали от оратора-адвоката ответы вроде того, что, «может быть, эта цифра причтена где-нибудь в другом месте!!.» Вместо сравнения выводов и указания реальных оснований их нам писали на доске ряды слагаемых и вычитаемых цифр (заранее известных) и пред нами же делали сложение и вычитание, да и то очень вяло… Очевидно, что тут не было ничего даже похожего на настоящее гласное судопроизводство, и вся эта комедия производилась просто для того, что г. Смирнов хотел собрать как можно более свидетелей того, как он подвергает г. Перозио экзамену из арифметики… А г. Перозио до того потерялся, что счел для себя удобным подвергнуться такому экзамену и думал, что ему будет большая честь, если он отличится из арифметики. Вот к чему сводится весь вопрос…
Нет, чистое дело может быть прочно и хорошо сделано только чистыми руками. Тут нечего ждать хорошего, когда двигателями являются задетые самолюбия да хлопотливые желания отличиться. Г-н Перозио вздумал раскрыть положение дел Общества русского пароходства и торговли; но он не сохранил достаточно чистоты и беспристрастия в своих заметках, он не дал себе труда вникнуть не в одни цифры отчетов, а в самый ход дела, на практике, – и оттого его замечания не достигли цели, которой должны были достигнуть… Г-н Перозио потребовал гласного судопроизводства; г. Смирнов, принимая его вызов, третировал его чрезвычайно оскорбительно и соглашался спорить совсем не о том, о чем хотел говорить г. Перозио. Казалось бы – тут и конец, тут и невозможность соглашения. Но ни оба противника, ни их посредники, ни сам суперарбитр не заметили, или не хотели заметить, этой вопиющей нелепости в самом начале дела. Все торопились устроить дело, и никто, по-видимому, не задал взаимно друг другу простого вопроса: что же это будет, в самом деле, – школьный экзамен или деловой спор? По крайней мере в заседании мы видели, что посредники обоих сторон совершенно противоположно понимали сущность спора… Суперарбитр старался выказать возможное беспристрастие; но нельзя же было не заметить, что его взгляды – более литературные, нежели деловые. Мудрено ли же, что заседание прекратилось при репетиловских возгласах:
Литературное здесь дело!
Оно, вот видишь, не созрело…
Нельзя же вдруг… [8 - Реплика Репетилова из «Горя от ума» (д. IV, явл. 4). У Грибоедова: «Но государственное дело…»]
И Репетиловы важно утверждают, что тут, в самом деле, главное – вопрос литературный; но что еще для решения его не все созрело… Да и как им не утверждать? Сам председатель собрания сказал, что мы не созрели, и пр. И многие верят на слово недозрелым Репетиловым, и – или приходят в благородное негодование, или ощущают тайную радость… А между тем вовсе нет: созрело все, и все можно вдруг, если вдруг и дружно приняться да определить ясно и твердо, – чего хочешь и к чему идешь… Только одно условие, один девиз: «Меньше слов, больше дела!» Нас ведь только то и губит теперь —
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела…[9 - Из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VIII, строфа IX).]
Обещает нам кто-нибудь белую корову подарить, – мы уж и чаю не пьем, в ожидании, что вот сейчас подадут нам сливок от этой коровы. Напишет кто-нибудь статейку о судопроизводстве или об акционерном обществе, – мы так и ждем, что вот воцарится правосудие, вот акции поднимутся и нам в следующем общем собрании огромный дивиденд выдадут. И человека, написавшего статейку, мы уже считаем обогатившим и спасшим нас, и уже без него не может обойтись никакое серьезное начинание… А между тем – и в судах и в компаниях все идет себе как и шло… А мы всё продолжаем верить и восхищаться – и все на слово… Вот отчего и пошла ведь теперь в ход эта особенного сорта литература, которая рядится в цифры и технические термины и перемешивает их с громкими фразами, а до дела все-таки не добирается… Мы довольствуемся этими цифрами, терминами и фразами, и вот почему дело у нас подвигается так медленно, вот почему всякий дельный разговор немедленно переходит у нас на общие места, всякое суждение о гласно заявленном факте оказывается критикою не самого факта, а только способа его заявления… Кто в этом виноват? Объяснить это довольно трудно – не потому, чтобы вещь была очень мудреная, а потому, что многие могут обидеться нашими словами, принявши их на свой счет… Но, впрочем, – пусть их принимают, если им это нравится; мы, собственно, никого лично не хотим оскорблять, а напраслину терпеть от литературных собратий нам уж не привыкать стать. Итак, попробуем объяснить, в чем дело.
Литература теперь в моде. В каждом новом предприятии промышленном, в каждой экспедиции, в каждом новом учреждении – литератор так же необходим, как бывал в прежние времена необходим генерал со звездой на московской купеческой свадьбе. Нас это очень радует; это добрый знак для литературы, а следовательно, и для образованности. Но такое новое отношение к обществу налагает на литераторов и новые обязанности. Прежде они могли довольствоваться фразами и дивить публику изяществом слога; теперь они должны понять, что от них не этого ждут. Литература становится элементом общественного развития; от нее требуют, чтобы она была не только языком, но очами и ушами общественного организма. В ней должны отражаться, группироваться и представляться в стройной совокупности все явления жизни. И именно с жизнью, с делом, с фактом должен иметь прямое отношение каждый, кто хочет выступить ныне в публику в качестве литератора… К сожалению, немногие понимают это; большая часть полагает, что достаточно одних внешних форм для того, чтобы вести дело литературным образом. И вот подобные-то господа, постоянно оказываясь негодными на деле, унижают собою литературу, бросают на нее тень подозрения и делают то, что общий вид литературных явлений за известный период представляется наконец смешным всякому здравомыслящему человеку, а для человека злонамеренного дает повод провозгласить его даже гибельным и опасным. Не потому у нас все так плохо начинается, чтобы не было людей истинно дельных и живых; но потому, что большинство общества, даже литературного, до сих пор еще бросается на громкие фразы, благоговеет перед цитатами и цифрами, не разбирая их, и постоянно вверяется тем, кто громче и самоуверенней говорит… А эти-то люди и оказываются пустыми крикунами, мертвыми формалистами, литературными чиновниками, неспособными не только прочно основать какое-нибудь дело, но даже начать его без нелепости… Люди же серьезные обыкновенно сидят в углу и делают какую-нибудь незаметнейшую работу… Отчего они равнодушно смотрят на проделки разных посредственностей, выдающих себя за передовых людей, трубящих о своих подвигах, берущихся за все очень рьяно, но портящих будущность всякого дела, за которое берутся; отчего эти серьезные люди сами не становятся сразу во главе передового движения, – это уж надобно объяснять болезненно развитым в них самолюбием: они настолько самолюбивы, что не хотят браться за дело, которое можно сделать только вполовину, и настолько умны, что не могут уверить себя в возможности сейчас же сделать его вполне… Разумеется, это нехорошо, потому что другие и вполовину-то не делают, а только портят. Но что же делать? Этого уж не переделаешь.
Таким образом, в пустячности нашего так называемого прогресса по всем частям оказываются виноваты всего более те же самые господа, которые всего более кричат о нем. Переступивши куриным шагом через какую-нибудь мизерную щепочку, они немедленно провозглашают, что сделали великий шаг вперед; им верят и успокоиваются, стоя на месте и воображая, что – ведь уж много прошли… Так мало-помалу и усыпляется энергия в обществе, как постоянною лестью усыпляется талант, начинавший было работать над самим собою. И покамест еще нет дела – все идет гладко, шумно, весело; как дошло до дела – все пропадает прахом.
Вот хоть бы и в настоящем случае… Г-н Перозио сам весьма торжественно вызвал г. Смирнова на состязание; а потом сам же не захотел докончить его и тем – если в не повредил делу устного судопроизводства, то все же сделал большую неприятность публике. Г-н Смирнов, с своей стороны, возвещал, что он г. Перозио считает школьником, которого надо экзаменовать из арифметики; г. Серно-Соловьевич (а может быть, и другой из посредников, – мы хорошо не помним) во всеуслышание сделал нотацию г. Перозио, что, принимаясь писать обвинительную статью, надо прежде приобресть кой-какие специальные сведения… Очевидно, что они весь спор считали – 1) личным делом своих самолюбий, 2) делом канцелярским, а не общественным… Но что же вышло? Здравый смысл не мог допустить, чтобы образованную публику собрали единственно для потехи г. Смирнова, желавшего иметь побольше свидетелей того, как он собьет г. Перозио на арифметике. И вот, несмотря на «Условия», г. Полетика, более практический и дельный человек, – стал давать новые соображения, представлять свои факты; противники же его, держась программы, упорно настаивали на том, чтобы не выходить из буквы статьи г-на Перозио. И вышло, что самое дело осталось в стороне, а вся эта суматоха, поднятая по городу неосторожно провозглашенным названием гласного и устного судопроизводства, превратилась в комедию, в которой действующие лица никак не могли понять друг друга, – и одни хотели толковать о сущности обвинений, другие – о литературных приемах г. Перозио. Не полезнее ли было бы явиться в это собрание людям, серьезно знакомым с делом, и говорить о самой сущности дела, оставя в стороне личную раздражительность г. Смирнова, литературную неумелость г. Перозио, наклонность к красноречию г. Серно-Соловьевича, и пр. Поверьте, что, говоря о деле, не могли бы так раздражаться обе стороны, решение было бы чем-нибудь существенным, а свойства статей г. Перозио выказались бы сами собою в весьма ярком свете… Теперь же в большинстве публики и после заседания, и даже хотя бы оно кончилось нормально – не осталось решительного и ясного убеждения относительно всех пунктов дела. И кончилось тем, что – вместо устного и гласного разрешения – публике при выходе неизвестные люди тыкали в нос какую-то брошюру против г. Перозио, изданную в Одессе и потом перепечатанную в Петербурге. Брошюрка раздавалась бесплатно: чьему бескорыстию мы этим обязаны – не знаем…
Подобным образом содействовать движению общественных вопросов не захотел бы ни один порядочный человек, потому что это значит у нас только портить их будущность. И мы надеемся, что все, кому истинно дороги истинные наши успехи в гражданской жизни, не примут на себя (несмотря на авторитет Е. И. Ламанского) круговой поруки за все, происходившее в зале Пассажа 13 декабря. Даже мы, чистые литераторы, – готовые с радостию вписать турнир этого дня, и особенно красноречие г. Серно-Соловьевича, в скрижали истории литературы для прославления наших дней в потомстве, – мы никогда не согласимся, чтобы по этому неудачному столкновению личных самолюбий, не ведающих, что творят, можно было судить о степени подготовленности нашего общества к устному и гласному судопроизводству.
Примечания
Впервые – Совр., 1859, № 12, отд. III, с. 403–422, подпись: «Н. Т – нов». Вошло в изд. 1862 г.
Статья выражает одну из особенностей реальной критики Добролюбова, которой, по его словам, необходимо придать «практический характер». Повод для статьи – привлекшая внимание различных общественных кругов открытая дискуссия о деятельности акционерного общества пароходства и торговли, состоявшаяся в петербургском зале Пассажа 13 декабря 1859 г. Ей предшествовала дискуссия в печати: статья-отчет директора компании Н. А. Новосельского «Сравнение русского общества пароходства и торговли, французской компании «Service maritime» и австрийского «Ллойда» (Морской сборник, 1859, № 10), говорившая об успехах «Общества», и в противовес ей написанные обличительные статьи экономиста П. П. Перозио (СПбВед., 1859, № 230, 239 и др.; БдЧ, 1859, № 7), утверждавшие, что статья Новосельского построена на произвольных фактах, которые расходятся с данными отчета общества за 1858 г. Новосельского поддержал в печати его сослуживец А. И. Смирнов. На публичный диспут Перозио – Смирнов для третейского разбирательства обеими сторонами были приглашены «посредники», видные публицисты, экономисты. Идею диспута в Пассаже одобрял Н. Г. Чернышевский (см.: Чернышевский, X, 54). Главным арбитром был избран известный экономист, финансист Е. И. Ламанский. А. Н. Пыпин вспоминал: «Диспут происходил вечером. На другое утро Добролюбов приходит к Чернышевскому поговорить об этом; он находил, что этого случая не надо бы пропустить в «Современнике»; Чернышевский соглашался, но думал, что это надо будет отложить до следующей книжки, так как теперь уже поздно будет писать статью. Но, к удивлению Чернышевского, оказалось, что статья уже написана: она могла быть напечатанной в той же очередной книжке журнала» (Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, с. 226).
Статья Добролюбова написана в пародийной, фельетонной манере. Диспут с претензией на гласность, на публичное выяснение истины Добролюбов представляет «литературным турниром», литературно-театральным действием, не случайно потерпевшим фиаско. Статья разоблачает демагогическую суть гласности, не подкрепленной реальными делами. Заключительная часть статьи дает широкую трактовку литературного дела, его многосторонних связей с жизнью, с ее конкретными фактами и событиями.
Добролюбов возвращался к теме статьи, ее героям в сатире «Наука и свистопляска» (Свисток, № 4; VII, 394–416). Статья вызвала полемику: Серно-Соловьевич Н. Несколько слов по поводу спора гг. Смирнова и Перозио (Журнал для акционеров, 1860, 3 февраля). Со статьей Добролюбова, однако, считалась и либеральная публицистика (см.: Громека С. С. Общественное мнение и акционерная гласность. – Век, 1861, № 9).
Николай Александрович Добролюбов
Статья выражает одну из особенностей реальной критики Добролюбова, которой, по его словам, необходимо придать «практический характер». Повод для статьи – привлекшая внимание различных общественных кругов открытая дискуссия о деятельности акционерного общества пароходства и торговли, состоявшаяся в петербургском зале Пассажа 13 декабря 1859 г. Статья Добролюбова написана в пародийной, фельетонной манере. Диспут с претензией на гласность, на публичное выяснение истины Добролюбов представляет «литературным турниром», литературно-театральным действием, не случайно потерпевшим фиаско. Статья разоблачает демагогическую суть гласности, не подкрепленной реальными делами.
Николай Александрович Добролюбов
Любопытный пассаж в истории русской словесности
Ах, какой посаж![1 - Добролюбов прибегает к просторечной форме – «посаж», что было и в рукописи, и в журнальном тексте (см.: V, 610, примеч. 1).]
(«Ревизор»)
13 декабря 1859 года запишется неизгладимыми чертами в истории русской словесности. Этот день доказал неоспоримо, что правила языка и слога действительно занимают во всех наших общественных вопросах первое и важнейшее место. – На язык, слог и даже шрифт устремляется всеобщее внимание; они делаются предметом гласных обсуждений, на которые стекаются многие сотни образованных людей – цвет нашего общества. О, какое великое дело язык, слог и шрифт!.. Мы убедились в этом, сидя в зале Пассажа 13 декабря сего года!..
Читателям нашим, конечно, известно из газет, что 13 декабря происходил в зале Пассажа литературный турнир между гг. Перозио и Смирновым. Но, может быть, не всем известна сущность и цель турнира…
«Помилуйте! За кого же вы нас принимаете, – восклицают читатели (не бывшие на знаменитом заседании). – Разве мы ничего не читаем, разве не интересуемся общественными вопросами или не умеем понимать того, что читаем?.. Разве не ясно высказана была цель устного состязания в вызове г. Перозио, в 261-м номере «С.-Петербургских ведомостей»? Г-н Перозио обличал Общество русского пароходства и торговли, а г. Смирнов защищал его; оба вооружались цифрами и фактами, и оба объявляли, что цифры и факты противника произвольны. Тогда г. Перозио и сказал: «Этак мы будем, пожалуй, спорить до бесконечности и все-таки не объясним публике настоящего положения дела. Но еще масса публики, положим, не так сильно заинтересована нашим спором, чтобы добиваться во что бы то ни стало – узнать, кто прав, кто виноват. Есть еще довольно обширный круг людей, интересующихся специально тем делом, о котором мы рассуждаем; это – акционеры Общества русского пароходства и торговли. Мы с разных сторон приступаем к ним, и я говорю: ваше дело идет плохо, а г. Смирнов говорит: напротив, – оно идет отлично… Оба мы подтверждаем свои уверения фактами и цифрами; но этой письменной полемики очень недостаточно для полного уяснения дела, и акционеры, не имеющие под руками всех данных, какие можем иметь мы, продолжают оставаться в недоумении, чему верить. Чтобы окончательно разъяснить дело, чтобы рассеять это недоумение, чтобы решительно убедиться и убедить других, каково же, наконец, положение дел Общества пароходства и торговли, – нам лучше всего сойтись и объяснить словесно, в присутствии посредников и публики. Тогда в несколько часов мы выскажем гораздо больше, нежели могли бы написать, споря друг с другом, в несколько месяцев, – и дело объяснится. Я готов публично доказывать свое положение, – что дело нехорошо, г. Смирнов пусть доказывает, что оно хорошо…» «Вот что говорил г. Перозио, – прибавляют читатели, – неужели же после этого еще вы полагаете, что у нас недостанет здравого смысла сделать вывод: цель состязания г. Смирнова с г. Перозио заключалась в том, чтобы раскрыть настоящее положение дел Общества русского пароходства и торговли».
«О, наивность! О, Аркадия! – восклицаем мы… – Да с чего же вы это взяли, почтенные читатели? На каком основании вообразили вы, что тут речь идет о делах? С какой стати примешали вы тут какое-то Общество русского пароходства и торговли?.. Вы ужасно ошиблись, понявши дело в таком виде. Вы сами сочинили слова, приписанные вами г. Перозио…»
«Однако же позвольте, – прерывают читатели. – Вот вам подлинные слова г. Перозио из 261-го номера «С.-Петербургских ведомостей». Прочитайте:
Тут дело еще не в массе читателей; мы спорим в виду читателей, так сказать, специальных, под которыми я понимаю акционеров Общества русского пароходства и торговли. Людям этим, положившим свои капиталы в предприятие и ожидающим от него великих и богатых милостей, мы доказываем: я – что дела Общества в плохом положении и что г. директор-распорядитель сообщает публике самые неверные сведения о ходе их; вы – что все это идет прекрасно и что я бессовестно лгу. У нас обоих в руках цифры, мы обвиняем, по-видимому, неголословно. Итак, гг. акционеры общества должны стоять между страхом и надеждою; так не лучше ли разом – или уничтожить этот страх, или рассеять надежды? Перепискою или печатною полемикою мы никогда не уясним как следует дела, да и, согласитесь, – надоедим читателям и собьем окончательно с толку акционеров, чего – не знаю, как вы, г. Смирнов, а я решительно не желаю. По-моему, вопрос об обвинении кого-нибудь в недобросовестности или неправильности действий и т. п. – вопрос юридический; так почему бы нам не применить здесь систему гласного судопроизводства, которого все мы так добиваемся?
«Вот слова г. Перозио, – продолжают читатели, не бывшие в заседании, – как же можно понимать их, как не в том смысле, который мы в них нашли? Обратите на них внимание, разберите их: ясно, что г. Перозио желает раскрыть дело, объяснить, подтвердить и дополнить свои показания, разрешить сомнения, которые могли быть возбуждены его статьями, и пр. Устное объяснение предположено им как продолжение полемики о делах Общества русского пароходства и торговли, взамен тех новых статей, которые мог бы он, равно как и г. Смирнов, писать до бесконечности по этому предмету…»
Некоторым может показаться справедливым вывод провинциальных читателей. Может быть, он и действительно имеет некоторую основательность с точки зрения деловых людей. Но мы в качестве чистых литераторов никак не можем признать в нем ни капли основательности… Мы не знаем, как доказать свое мнение; но подражая г. Серно-Соловьевичу[2 - Н. А. Серно-Соловьевич, близкий в то время к революционно-демократическим кругам, был известен разоблачительными материалами о деятельности компании «Сельский хозяин». См. отклики: «Акционерное общество», «Сельский хозяин» (Журнал для акционеров, 1859, 8 октября. Прибавление), «Настоящая причина перенесения общего собрания акционеров «Сельского хозяина» с 15 на 30 октября» (СЛбВед., 1859, № 223) и др. Отклики на эти выступления см.: БдЧ, 1859, № 11 – «Современная русская летопись»; Совр., 1859, № 11 – «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». В диспуте 13 декабря Серно-Соловьевич выступал на стороне члена правления «Русского общества пароходства и торговли» А. И. Смирнова. Добролюбов и до диспута иронически оценивал публицистические выступления Серно-Соловьевича (см.: Свисток, № 3; VII, 375–378). Не случайно обращение Чернышевского в письме к Добролюбову от 7/19 февраля 1861 г.: «Вы сделали бы мне великую радость – полюбили бы Серно-Соловьевича! Увы, не смею надеяться этого!» (Чернышевский, XIV, 423).], не унываем и кричим очень громко: «Дело в том, господа читатели, что в статье г. Перозио нет именно тех слов, какие вы говорите. О дополнении показаний, о представлении защиты дела – там не сказано, а сказано только: «Я готов доказать всю истину показаний, деланных мною до сих пор…» Мы должны придерживаться буквы того, что написано… А те заключения, которые вами, читатели, представлены, – вы сами вывели. Верно ли вы их вывели, – это другой вопрос, который сюда не входит; а главное то, что в статье г. Перозио нет тех слов, которые вы говорите… Следовательно, вы неправы…»
Отделавшись, таким образом, от читателей, мы чувствуем, что у нас на душе стало легче. Мы проникаемся великодушием и говорим (опять подражая г. Серно-Соловьевичу): несмотря на то, что мы вас совершенно разбили, читатели, – вы признаетесь правыми. Действительно, первоначально в статье г. Перозио мог быть тот смысл (и даже, по правде говоря, не мог не быть), – что устное объяснение назначается для удобнейшего раскрытия положения дел Общества пароходства и торговли. Но видите ли, в чем дело, аркадские наши читатели. Нужны были посредники для состязания: г. Смирнов пригласил В. А. Жемчужникова, Н. А. Серно-Соловьевича и В, И. Шульца; г. Перозио пригласил – В. А. Полетику[3 - Добролюбов благосклонно отнесся к участию в диспуте на стороне Перозио В. А. Полетики, уже тогда известного своими публичными выступлениями горного инженера, экономиста. А. В. Никитенко в другое время отмечал живость, легкость, разумность его выступлений (см.: Никитенко А. В. Дневник в 2-х томах, т. 2. М., 1955, с. 475–476).], Г. З. Зубинского и П. В. Соловцова. Президентом заседания, или суперарбитром, как сказано в программе, приглашен быть Е. И. Ламанский. При самом объявлении о выборе посредников г. Смирнов, неизвестно по каким причинам, перенес спор в сферу более возвышенную и более достойную ученых и литературных деятелей, принявших участие в деле. Г-н Смирнов объявил, что, собственно, спорить не о чем, предмет бесспорный, но что он желает сделать г. Перозио публичный экзамен в первых четырех правилах арифметики. Для этого он обещал вооружиться: отчетом общества, статьею г. Новосельского и «Арифметикой» Меморского[1 - Плохая «Арифметика», более притупляющая, нежели развивающая сообразительность учеников; но г. Смирнов упомянул именно о ней – может быть, потому, что сам по ней учился.][4 - Меморский М. Ф. Арифметика в вопросах и ответах, расположенная по новейшему методу, в двух частях, для легчайшего обучения детей. Очередное издание вышло в 1859 г. М.]. Отчет и статья, очевидно, нужны были затем, чтобы было – откуда брать задачи для г. Перозио; «Арифметика» же Меморского… для того, вероятно, чтобы г. Смирнову справляться в ней, если что позабудет… Иначе ее незачем было бы и брать: ведь ученикам на экзамене не позволяется в книжку заглядывать… Впрочем, это мы мимоходом только заметили; г. Смирнов объявил себя экзаменатором, – так, разумеется, ему и книги в руки… Но главное для нас – следующие соображения, которые сейчас же и докажут ошибку читателей, предполагающих, что в Пассаже 13 декабря собирались толковать о деле.
Всякий согласится, что учебник Меморского имеет весьма слабое отношение к деятельности Общества русского пароходства и торговли. Что он за документ? Какие в нем данные о делах Общества? Ясно, что уже в самом «Ответе на вызов» г. Смирнова указывается другая цель состязания, не материальная, не меркантильная, а высшая, ученая. Вопрос перенесен в сферу первых четырех правил арифметики; что же касается до дела, то о нем и говорить не стоит, по мнению г. Смирнова. Он находит странным, что г. Перозио хочет еще каких-то устных рассуждений, и приглашает всех желающих быть свидетелями публичного экзамена г. Перозио, но никак не рассуждений о делах.
Могут сказать, что ведь вольно же было г. Смирнову понять дело таким образом. Могут заметить, что такой оборот дела даже не делает особенной чести г. Смирнову, потому что доказывает его несостоятельность в вопросе о деле, которое взялся он разбирать. Если бы он знал дело, скажут наивные читатели, – то должен был бы ухватиться за случай разъяснить его. В вызове г. Перозио была, конечно, фраза и о том, что он будет доказывать свои прежние положения; но весь смысл вызова говорил в пользу прений о положении дел Общества. И ежели г. Смирнов весь этот смысл оставил в стороне, а придрался лишь к одной фразе в вызове г. Перозио, то он доказал этим, что не пошел далее «Арифметики» Мсморского. Но в таком случае ему вовсе не следовало браться за указание неверностей в статьях г. Перозио, или взяться, но тут же и объявить, что самого дела он, г. Смирнов, не понимает и не может сказать, прав ли г. Перозио в сущности, а только хлопочет о восстановлении попранных прав арифметики в качестве школьного учителя. Тогда г. Перозио, конечно, не стал бы и вызывать его на спор, потому что смешно же прибегать к гласному судопроизводству и решать по большинству голосов, что, например, 35–5 = 30…
Все это, может быть, и правда. Но дело в том, что не один г. Смирнов, а и сам г. Перозио склонился потом на то, чтоб предметом прений сделать арифметику. Если бы он хотел действительно рассуждать о делах, то он, конечно, на приведенный выше ответ г. Смирнова должен был бы возразить так: «Я вам предлагаю объяснить и доказать публично мои показания, во избежание дальнейшей полемики; а вы в ответ на это бросаете мне в лицо пошлые и оскорбительные остроты – или умышленно, или по недостатку сообразительности не понимая, чего я хочу. Честь имею вам объявить, что экзаменоваться у вас из первой части арифметики я считаю совершенно ненужным, а приглашать на это публику – унизительным, не столько для меня, сколько для вас и для нее. Ответ ваш я принимаю за уклонение от серьезного, публичного рассуждения и вследствие того имею право взять назад свой вызов до тех пор, пока вы не выкажете большей вежливости и благоразумия. Что же касается до ваших оскорбительных фраз, относящихся лично ко мне, то о них мы с вами можем объясниться и без публики».
Так, без сомнения, ответил бы г. Перозио, если бы он имел намерение рассуждать о делах; по крайней мере всякий согласится, что именно такой ответ предписывается человеку в подобных случаях всеми правилами чести и благоразумия. Но г. Перозио весьма скромно напечатал в 267 № «С.-Петербургских ведомостей», – что он «с должною благодарностью принимает согласие г. Смирнова выступить на публичный спор с ним для окончательного решения вопросов, изложенных в протесте его против статьи г. Новосельского». Здесь еще есть упоминание об окончательном решении вопросов; но из самого согласия г. Перозио видно, что он и сам уже начинает смотреть на вопрос не с деловой, а с литературной точки.
Вслед за тем дело повертывается уже решительно в пользу словесности. Да и нельзя иначе: в числе посредников находился г. Серно-Соловьевич, из уст которого (как мы уже замечали недавно) так и вырезывается красноречивый карамзинский стиль… Сей юный литературный деятель не мог оставаться, и не остался, – как видели мы в заседании, – равнодушным к вопросам стиля и даже шрифта. И его ревности благоприятствовала вся программа состязания. Целью ее была постановлена – «поверка г. Смирновым фактов, цифр и выводов г. Перозио в статье «Протест против статьи г. Новосельского»«. Из этого ясно, что не только сам г. Перозио, но и его посредники согласились смотреть на состязание как на чисто ученый и литературный спор. Даже больше – они согласились смотреть на все дело как на урок из арифметики, данный г-ну Перозио, самим его посредникам и всей публике. Иначе – зачем тут замешалось бы личное присутствие г. Перозио, зачем даже посредники? Статья г. Перозио напечатана; г. Смирнов возразил на нее тоже печатно. Дело все в цифрах и положительных данных, да и не в изменении их, а в простой арифметической поверке… На что же тут нужен г. Перозио? Просто бы пригласить как можно больше народу, да и прочесть им лекцию о недобросовестности г. Перозио и о слабости познаний его в арифметике. Да, пожалуй, и этого не нужно было, потому что на устное совещание нельзя же пригласить столько народу, сколько найдется читателей для статей, напечатанных против г. Перозио… Очевидно, что присутствие г. Перозио нужно было только в двух случаях: или – ежели он и его посредники могли в подкрепление своих прежних показаний представлять новые объяснения, данные и соображения, – но этого не было; или же в том случае, если ему следовало прочесть наставление относительно занятий арифметикою, – это и было, как положительно заявлено и в «Ответе» г. Смирнова и в самом начале «Условий» состязания.
Таким образом, мы, на основании печатных документов, можем уже положительно заявить нашим читателям, что они жестоко ошибаются, если считают целью собрания 13 декабря – раскрытие дел Общества русского пароходства и торговли… Нет, по мнению г. Смирнова, отвергшего вызов г. Перозио говорить о делах, – столь низкая, материальная цель была бы, конечно, недостойною первого опыта устного судопроизводства у нас! Тут была цель высшая, так сказать невещественная: суждение о литературном и ученом (то есть арифметическом) достоинстве статей г. Перозио. В этом последнем мы убедились, присутствуя при состязании, и потому поспешим рассказать о нем.[2 - В нашей заметке нет никаких цифр и исследований о сущности спора гг. Перозио и Смирнова; мы говорим лишь об общем характере турнира. Что же касается до цифр, то об этом мы, может быть, представим особую статью[10 - Такая статья не была написана.].]
До 600 человек наполнили залу Пассажа в полдень 13-го числа. Умилительно было видеть это всеобщее сочувствие к литературе, возбужденное в массах столичного населения. «Боже мой, – думали мы, – давно ли было то время, когда не интересовались тем, что пишут о Гоголе, когда не знали имени Белинского! А теперь – какая перемена!.. Что за литературные деятели гг. Перозио и Смирнов? Один нашел несколько недомолвок и недоразумений в отчете акционерной компании; другой написал о нем, что, ловя чужие ошибки, он и сам наделал арифметических промахов… И вот все их права на знаменитость… А между тем зала полна! Все хотят слышать решение, кто из двух противников более отличается точностью слога, кто глубже проник в тайны первых начал арифметики – г. Смирнов или г. Перозио… Красноречивые и остроумные литераторы приглашены к посредничеству; знаменитый русский ученый председательствует при этом литературном споре… Умилительное зрелище!..»
Но вот суперарбитр произносит торжественную речь, в которой старается внушить публике надлежащее благоговение к предстоящему зрелищу. Он упрашивает ее сохранять строгое молчание, дабы выражением одобрения или неудовольствия не влиять на решение посредников относительно того, кто из спорящих вернее складывает. Он говорит, что самим своим безмолвием публика будет импонировать на их добросовестность в разрешении, по большинству голосов, вопросов о том, что больше – 30 или 20, или о том, действительно ли выйдет 30, если 286 вычесть из 316, и т. д. Затем начинаются прения.
Г-н Смирнов излагает свои обвинения. Потом, по вопросу суперарбитра, г. Перозио представляет свои положения по первому пункту (а всех их – 13), г. Смирнов возражает; после того посредники начинают рассуждать. Со стороны г. Смирнова преимущественно действует г. Серно-Соловьевич; со стороны г. Перозио – г. Полетика. Спор ведется очень литературно со стороны г. Серно-Соловьевича. Доказательством служит уже то, что вопрос о правильности сложения цифр 20 + 10 + 5 и вывода из них – 35, – поддерживался им почти три четверти часа!.. Можете себе представить, как широко было его красноречие и как велико адвокатское искусство!.. Но, к сожалению, г. Полетика с первого же раза обнаруживает удивительное равнодушие к литературным интересам и старание свести речь на сущность дела… Ему, конечно, указывают на программу, которую он же сам подписал и в которой говорится, что суждение должно идти вовсе не о деле, а о достоинстве статьи г. Перозио. По первому пункту (о числе пароходов) г. Перозио признается неправым, потому что в статье его действительно оказывается обвинение в утайке цифр, которые не были утаены.
Затем идет второй пункт – о распределении пароходов на речные и морские. Тут пошла речь об основаниях распределения; но оказалось, что этот вопрос выходит из пределов программы, ибо касается технических соображений, которых решено не касаться. Решение это сделало, как напечатано в «Условиях», посредниками г. Перозио, и между прочими – г. Полетикою. Посредники же г. Смирнова сами предлагали – рассуждать и о технических вопросах. Хотя они вопросов этих и не понимали, как неоднократно признавались в заседании, – но что до этого! На их стороне было всесокрушающее красноречие г. Серно-Соловьевича. Если он о 30 и 20 ораторствовал более получаса, то чего бы не наговорил он, если бы дело коснулось вопросов технических!.. Но как бы то ни было – второй пункт остался в стороне. Тут чей-то невежливый голос раздался сверху: «Так уж лучше бы и все оставить в стороне». Но публика встретила этот голос шиканьем, и тишина немедленно восстановилась.
Приступили к третьему пункту. Но тут уже началось совершенное торжество ораторского искусства и литературных воззрений. Б последующих пунктах многое зависело от «опроса о распределении морских и речных пароходов, так как г. Перозио делает выводы из сличения цифр «Сравнения», относящихся к одним морским пароходам, с цифрами «Отчета», относящимися ко всем пароходам вообще. Если бы рассуждали о деле, то, конечно, второй вопрос нужно бы выяснить совершенно; но для литературного спора вопрос этот оказался неважным, и его оставили без решения. Зато и вышел весьма важным третий вопрос – «о количестве пройденных миль». Здесь г. Серно-Соловьевич в течение четверти часа занимал собрание весьма глубокими и красноречивыми рассуждениями о шрифте, каким напечатано замечание г. Перозио о милях. Весьма одушевленно и с чрезвычайною твердостью ораторствовал он о курсиве и пускался в весьма тонкие соображения о том, что хотел г. Перозио сказать курсивом. Но, к несчастью, г. Полетика не сумел оценить и этих благородных усилий на пользу ораторского и отчасти типографского искусства. Он возразил г. Соловьевичу: «Да что нам рассуждать о том, что хотел сказать г. Перозио своим курсивом? Ведь г. Перозио здесь: спросим его лучше». Какой странный человек этот г. Полетика! Оно, конечно – лучше; да для чего лучше? Для дела, а уж никак не для ораторского искусства г. Серно-Соловьевича. Впрочем, г. Перозио так, кажется, и не спросили, и он по пункту с курсивом – оставлен в подозрении[3 - Г-ну Серно-Соловьевичу представляется удобный случай рассудить: что значит у нас курсив в этом месте?].
Далее пошел вопрос о топливе. Найдено, что г. Перозио промахнулся здесь, не выведши пропорции антрацита с углем. Но тем не менее г. Полетика доказывал, что цифры, приведенные г. Новосельским и критикуемые г. Перозио, – неверны. Он, очевидно, никак не хотел стать на школьно-литературную точку зрения, которая ясно определена была «Условиями»; подписавши вместе; с другими эти «Условия», он в самом заседании, против всякого ожидания г. Смирнова и его посредников, вдруг вообразил себе, что нужно вести речь о деле, и на этом основании упорно пытался доказывать – не то, что статья г. Перозио очень хорошо написана, а то, что сущность дела все-таки с нею согласна, а не с уверениями г. Смирнова. Г-н Полетика дошел до того, что стал требовать от противной стороны категорического ответа: «Буду ли я прав, если докажу вам, что эти цифры отчета неверны?» Разумеется, ему не дали категорического ответа, потому что это значило бы перенести вопрос с арифметически-литературной арены на арифметически-деловую… Г-н Серно-Соловьевич с замечательным ораторским искусством уклонился от категорического ответа. Он начал немедленно какую-то длинную речь, которая начиналась словами: «Вы смешиваете…» Далее мы отчасти не слыхали, потому что за этими словами раздался в публике дружный смех, – а отчасти и позабыли, потому что вообще не богато одарены памятью слов… Помним только, что речь г. Серно-Соловьевича была очень красноречива, хотя он и говорил иногда одно слово вместо другого, как, например, однородные вместо разнородные, мильоны вместо тысячи и т. п. Но это объясняется тою поспешностью, С которой г. Серно-Соловьевич стремился излить потоки своего красноречия.
Но при шестом или седьмом вопросе сам г. Перозио оказался человеком, которого мало занимают интересы русской литературы и самой «Арифметики» Меморского. (Да и не мудрено: судя по фамилии, он должен быть из иностранцев!) Прежде ответа на данный ему вопрос он выразил свое неудовольствие на то, что не принимаются во внимание никакие соображения сверх тех, которые были в его статье. «Если вы будете судить только мою статью (в этом смысле сказал г. Перозио), то я здесь – лишний человек; вы можете это и без меня делать. Если же вы хотите от меня объяснений и доказательств, то не оставляйте в стороне тех фактов, которые вам представляются теперь мною и моими посредниками». Но на это было замечено, что претензия г. Перозио неосновательна: ему дают полную возможность защищаться; но то, чего нет в его статье, не должно быть принимаемо во внимание по смыслу самой программы состязания, на которую он согласился. И действительно – подписывая условия, г. Перозио должен был видеть, что тут предполагается вести речь об его статье, что ему хотят дать урок, сделавши поверку его чисел и указавши его неверности… Более тут ничего не требовалось, и г. Перозио должен был покориться своей участи, если уж раз поставил себя в такое положение. Он мог, не сочувствуя нашей словесности и нашему стилю, не выходить на спор в таких пределах; но если уж раз согласился, то должен был безропотно вынести все ораторское искусство г. Серно-Соловьевича.
Гораздо в большей степени то же самое нужно сказать и о г. Полетике: он выказал не только преступную наклонность говорить о деле, когда его противники вели речь о литературных приемах г. Перозио, – но и недостаток сочувствия к установленной форме. По форме «Условий», гг. Перозио и Смирнов «не имеют права речи более одного раза после каждого вопроса программы». Между тем в одном вопросе, после речи г. Перозио, возбудились какие-то новые недоумения; г. Полетика сказал, что он этого не может хорошо объяснить, но что г. Перозио просит дозволения сам сказать еще несколько слов в свою защиту. Посредники противной стороны, как видно, привыкшие все делать по чину и по форме, отказали г. Перозио в этом дозволении… И они были совершенно вправе, разумеется: когда уж раз что написано, то как же можно это отменять, хотя бы и по взаимному соглашению! У нас, говорят, бывали случаи, что и мировые сделки не разрешались, по несоблюдению некоторых формальностей. Да оно так и следует… А то что ж за порядок будет?..
Но г. Перозио, очевидно, позабыл, что вышел пред публикою в качестве экзаменуемого школьника, и потому все не угомонился: при следующем ответе он опять заявил свое неудовольствие, прибавив, что он, по невозможности защищаться, готов сейчас же признать себя виноватым, только чтоб ему дали защитить его последний пункт. Но на это не согласились противники, и суждение продолжалось, впрочем – увы! – ненадолго… Одна из реплик г. Полетики вызвала громкие рукоплескания и крики «браво!». Тогда г. Полетика, обратившись к противникам, сослался на одобрение публики как на факт, дающий ему право на большее внимание противников к его словам. Заметно, он был даже раздражен тем, что литературные приемы г. Перозио стоят в обсуждении посредников на первом плане, а самое дело – далеко на втором… Вслед за тем и г. Перозио объявил, что он признает себя неправым и более защищаться не желает… Произошло некоторое недоумение… Но тут встал суперарбитр, г. Ламанский, и произнес краткое слово о том, что публика, вопреки предварительным условиям и просьбе его, суперарбитра, не удержалась в должных пределах и громко высказывала свое неодобрение или одобрение. В этом г. Ламанский был, разумеется, совершенно прав, особенно если взять дело опять-таки с ораторской точки зрения. Конечно, крики: «браво!», «нет», «да», рукоплескания, смех и т. п. бывают во всех возможных парламентах; следовательно, вообще говоря, тут еще со стороны русской публики особенного неприличия не было… Но это только вообще… А надо взять дело в частности: надо вспомнить, что ведь зато в парламентах никогда и не обсуждали столь возвышенных вопросов, как в знаменитом заседании 13 декабря. Вопрос об ученых достоинствах статей г. Перозио и г. Смирнова требовал, конечно, от присутствующих гораздо большей дозы благоговения, нежели всевозможные парламентские прения. Другое дело, если б речь шла о низких, материальных предметах – о положении дел Общества пароходства, – ну, тогда публике могло бы быть и повольготней… А с другой стороны, и то надо сказать: где же и ораторы такие бывают, как у нас? Англичан хвалят; да ведь у них зато и предметы-то такие, что всякий может говорить. А заставьте-ка любого из них поговорить – хоть, например, о курсиве; ни один против наших не выйдет… Так и надо это ценить, и благоговейную тишину соблюдать!..
Публика поняла это, по-видимому, очень хорошо.[5 - В рукописи далее шел текст, в котором более резко противопоставлены выступления «посредников» – Н. А. Серно-Соловьевича и В. А. Полетики: «…в первый раз видели мы действие словесного суда не только на подсудимых, но и на самих судей и на всех присутствующих. Каждый из нас видел, что подсудимые излагают свои показания прямо и положительно, без утаек и крючков, столь обычных в нашем письменном судопроизводстве. В самих посредниках мы видели сознание важности их дела и добросовестное стремление прийти к истине. Если г. Серно-Соловьевич ораторствовал о шрифтах и приводил аллегорические доводы, а г. Полетика толковал о таких цифрах отчета, против которых ничего не говорилось в статье г. Перозио, – так это уж происходило от существенной разницы в складе их ума и в самых основных понятиях. Г-ну Полетике не важно было то, оправдаются ли частные фразы статьи г. Перозио: он хотел защитить только существенный смысл его статьи, – то есть, что дела Общества пароходства действительно не соответствуют тому блестящему положению, какое им придано в «Отчете» и «Сравнении». Г-ну Серно-Соловьевичу, напротив, казалось важным именно то, чтобы сокрушить каждую фразу статьи г. Перозио; а в каком положении само дело, до этого он вовсе не хотел касаться. Об остальных посредниках мы не говорим, потому что их участие было довольно бледно. Но тем не менее обо всех их нужно сказать, что каждый из них (разумеется, по мере сил и способностей) старался отклонить от себя малейшую тень недобросовестности. Кто не знал дела и не имел ничего сказать, тот молчал; кто был уличен в ошибке, тот не изворачивался, а старался объясниться. Разумеется, по самой разнице основных воззрений на вопрос г. Серно-Соловьевич не мог, например, понимать некоторых, весьма ясных вещей, предлагавшихся г. Полетикою. Но видно было, что и это непонимание совершенно искренно, простодушно и не заключает в себе никакой преднамеренности» (V, 610). В журнальную публикацию не вошло.] В глубоком молчании выслушан был многочисленным собранием очень тихий голос председателя, а вслед за тем раздались крики: «Продолжать заседание!..» Г-н Полетика взял было каску и хотел уже идти вон, г. Перозио собрал свои бумаги; но публика кричала: «Назад! назад! Неуважение!..» Видно было, что на это время публика забыла и литературные, высшие интересы и материальную сторону дела; она сделалась равнодушною к обеим партиям; ей хотелось одного: чтобы начатое дело было докончено. В первый раз еще присутствовали мы все при подобном обсуждении дела, хотя и арифметического; и многие думали, что это заседание может послужить началом для других, которые будут уже не столько смешны по своей сущности и не так бюрократичны по форме. Поэтому-то все присутствующие с удивительным терпением выносили, как пред ними делали сложение, вычитание, как отклоняли от рассуждения все реальные вопросы (очень важные для людей, не доросших до понимания высших ораторских наслаждений) и т. п. Многие находили даже, что как ни плохо спелись обе стороны, но все-таки из их рассуждений дело отчасти выясняется, и, во всяком случае, выясняется больше, нежели посредством целых груд канцелярской переписки. Кого интересовало дело, тот почувствовал возможность узнать о нем кое-что из возражений г. Полетики; кого занимало литературное достоинство статей г. Перозио, тот убедился в недостатке их ловкости и точности из положений г. Смирнова и некоторых замечаний г. Жемчужникова; а кому любопытно было слышать звонкую ораторскую речь, тот нашел полное удовлетворение, слушая г. Серно-Соловьевича. Итак, все желали, чтоб заседание дошло до конца и заключилось добрым порядком. Поэтому, когда после замечания г. Ламанского все умолкли и г. Серно-Соловьевич начал торжественным тоном какое-то великодушное объяснение относительно своих противников и громкое восхваление достоинств суперарбитра, а посредники г. Перозио, не желая дослушивать его, собрались уходить, то публика сама выразила неудовольствие на такой беспорядок – закричала «назад!» и требовала продолжения заседания. Во многих углах раздались обещания, что мы теперь будем сидеть смирно, пальцем не пошевелим и пр. … Среди этого смятения вдруг раздался звонок; все смолкло, и тихий голос суперарбитра объявил успокоившейся публике, что заседание закрыто…
Если бы дело гг. Перозио и Смирнова решилось тем, что они оба правы, а виноваты все присутствующие, – это не столько бы поразило публику, как внезапное прекращение заседания. Началось общее смятение; одни отчаянно пожимали плечами, другие как-то съежились и опустились…
Некоторые пришли тотчас к заключению, что штука эта еще на десять лет отдалила у нас гласное судопроизводство! Даже г. Ламанский, конечно[6 - Вместо предыдущей фразы и слов «Даже г. Ламанский, конечно» в рукописи шел следующий текст: «Но нас особенно тронуло одно зрелище: двое молодых людей стояли посреди залы и крепко жали руки друг другу; один из них со слезами на глазах говорил другому: «А знаешь ли ты, что эта штука еще на десять лет похоронила у нас гласное судопроизводство!» – «Но неужели ж они будут столько тупоумны, что не разберут, в чем дело?» – отвечал другой с каким-то отчаянием: видно было, что он сам не верил тому, чем старался утешить себя…Бедные молодые люди!.. Они ведь в самом деле принимали ату штуку за начало гласного судопроизводства в России, они ожидали от нее хороших результатов! Как много веры в них, бедных, и как рано приходится им испытывать горькое разочарование! Впрочем, они утешатся довольно скоро: они, вон, полагают, что нельзя быть столько тупоумным, чтобы из этого опыта вывести заключение о неприменимости гласного судопроизводства в России! Да разве тут степень разума или тупоумия определяет дело? Вовсе нет: тут действует страсть, выгода, интрига и тому подобные мотивы. Кто же назовет тупоумным г. Ламанского? А между тем он…» (V, 611).], допустивши себя увлечься минутным раздражением, объявил, будто сегодняшнее заседание показывает, что «мы еще не созрели для этой формы судопроизводства»[7 - По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, эти слова Е. И. Ламанского «наделали в свое время много шума и вызвали бесчисленные протестации» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 233). Во время диспута 19 марта 1860 г. о происхождении Руси М. Н. Погодин заявил: «…мы созрели для решения нужных и важных для нас вопросов» (Отчет о диспуте гг. Погодина и Костомарова 19 марта 1860 т. – СПбВед., 1860, № 67, 25 марта). Добролюбов обыгрывал то и другое заявление в своей сатире «Наука и свистопляска» (Свисток, № 4; VII, 394–416).]. Если он это чувствовал сам – ибо не мог сохранить полного спокойствия и ровного присутствия духа, – то он в своем сознании совершенно прав со своей стороны; но он неправ, перенося это сознание на публику. Публика желала, требовала, даже просила продолжения заседания; гг. посредники г. Перозио не могли уйти против воли председателя; он мог и должен был удержать их во что бы то ни стало или по крайней мере закончить дело спокойно и беспристрастно, не давая г. Серно-Соловьевичу разглагольствовать о достоинстве суперарбитра и пр. и не давая г. Полетике разгорячаться пред самым концом дела… И если г. Полетика прежде всех сделался виноватым в нарушении заседания, то г. Ламанский после всех остается в нем виновным.
Впрочем, собственно говоря, тут никто не виноват, кроме тех, которые хотели здесь видеть что-нибудь более, чем стилистические упражнения, вроде бывавших в старые годы семинарских диспутов. Не всякий спор в присутствии большого общества может быть назван гласным судопроизводством, так же как не всякое обсуждение статьи, трактующей об акционерной компании, – рассуждением о делах этой компании. Некоторые из участвовавших в деле действительно с большим ожесточением трубили о том, что вот, дескать, они затевают первый опыт гласного судопроизводства в России. Но они, очевидно, и понятия-то о нем не имели, и не пошли дальше названия. Они же сами не раз повторяли в заседании, что пришли решать арифметические задачи… по большинству-то голосов: какое милое понятие о назначении гласного суда! Как сильно выразилась тут русская привычка к тому, чтобы произвол личный становился выше непреложных начал логики и даже арифметики!.. Но, впрочем, в заседании голосов не собирали и чрез то нарушили форму, которой так неуклонно старались держаться в других пунктах. Да и как было собирать голоса, когда посредники, долженствовавшие быть судьями дела, внезапно, к великому удивлению публики, оказались адвокатами. В самых рассуждениях с начала до конца господствовала удивительная неопределенность, и вследствие того – когда одна сторона начинала речь про Фому, другая отвечала ей непременно про Ерему. И ни в посредниках, ни даже в самом суперарбитре мы не нашли полного приготовления к прямому ведению спора; в некоторых из посредников незаметно было даже вовсе никакого приготовления. Оттого вместо дельных замечаний, которые могли бы быть полезны для акционеров, мы слышали здесь словоизлития по поводу того, оговорено или не оговорено в статье такое-то замечание, каким шрифтом напечатана такая-то фраза, и т. п. На улики о том, что нет такой-то цифры в таком-то месте «Отчета», мы слышали от оратора-адвоката ответы вроде того, что, «может быть, эта цифра причтена где-нибудь в другом месте!!.» Вместо сравнения выводов и указания реальных оснований их нам писали на доске ряды слагаемых и вычитаемых цифр (заранее известных) и пред нами же делали сложение и вычитание, да и то очень вяло… Очевидно, что тут не было ничего даже похожего на настоящее гласное судопроизводство, и вся эта комедия производилась просто для того, что г. Смирнов хотел собрать как можно более свидетелей того, как он подвергает г. Перозио экзамену из арифметики… А г. Перозио до того потерялся, что счел для себя удобным подвергнуться такому экзамену и думал, что ему будет большая честь, если он отличится из арифметики. Вот к чему сводится весь вопрос…
Нет, чистое дело может быть прочно и хорошо сделано только чистыми руками. Тут нечего ждать хорошего, когда двигателями являются задетые самолюбия да хлопотливые желания отличиться. Г-н Перозио вздумал раскрыть положение дел Общества русского пароходства и торговли; но он не сохранил достаточно чистоты и беспристрастия в своих заметках, он не дал себе труда вникнуть не в одни цифры отчетов, а в самый ход дела, на практике, – и оттого его замечания не достигли цели, которой должны были достигнуть… Г-н Перозио потребовал гласного судопроизводства; г. Смирнов, принимая его вызов, третировал его чрезвычайно оскорбительно и соглашался спорить совсем не о том, о чем хотел говорить г. Перозио. Казалось бы – тут и конец, тут и невозможность соглашения. Но ни оба противника, ни их посредники, ни сам суперарбитр не заметили, или не хотели заметить, этой вопиющей нелепости в самом начале дела. Все торопились устроить дело, и никто, по-видимому, не задал взаимно друг другу простого вопроса: что же это будет, в самом деле, – школьный экзамен или деловой спор? По крайней мере в заседании мы видели, что посредники обоих сторон совершенно противоположно понимали сущность спора… Суперарбитр старался выказать возможное беспристрастие; но нельзя же было не заметить, что его взгляды – более литературные, нежели деловые. Мудрено ли же, что заседание прекратилось при репетиловских возгласах:
Литературное здесь дело!
Оно, вот видишь, не созрело…
Нельзя же вдруг… [8 - Реплика Репетилова из «Горя от ума» (д. IV, явл. 4). У Грибоедова: «Но государственное дело…»]
И Репетиловы важно утверждают, что тут, в самом деле, главное – вопрос литературный; но что еще для решения его не все созрело… Да и как им не утверждать? Сам председатель собрания сказал, что мы не созрели, и пр. И многие верят на слово недозрелым Репетиловым, и – или приходят в благородное негодование, или ощущают тайную радость… А между тем вовсе нет: созрело все, и все можно вдруг, если вдруг и дружно приняться да определить ясно и твердо, – чего хочешь и к чему идешь… Только одно условие, один девиз: «Меньше слов, больше дела!» Нас ведь только то и губит теперь —
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела…[9 - Из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VIII, строфа IX).]
Обещает нам кто-нибудь белую корову подарить, – мы уж и чаю не пьем, в ожидании, что вот сейчас подадут нам сливок от этой коровы. Напишет кто-нибудь статейку о судопроизводстве или об акционерном обществе, – мы так и ждем, что вот воцарится правосудие, вот акции поднимутся и нам в следующем общем собрании огромный дивиденд выдадут. И человека, написавшего статейку, мы уже считаем обогатившим и спасшим нас, и уже без него не может обойтись никакое серьезное начинание… А между тем – и в судах и в компаниях все идет себе как и шло… А мы всё продолжаем верить и восхищаться – и все на слово… Вот отчего и пошла ведь теперь в ход эта особенного сорта литература, которая рядится в цифры и технические термины и перемешивает их с громкими фразами, а до дела все-таки не добирается… Мы довольствуемся этими цифрами, терминами и фразами, и вот почему дело у нас подвигается так медленно, вот почему всякий дельный разговор немедленно переходит у нас на общие места, всякое суждение о гласно заявленном факте оказывается критикою не самого факта, а только способа его заявления… Кто в этом виноват? Объяснить это довольно трудно – не потому, чтобы вещь была очень мудреная, а потому, что многие могут обидеться нашими словами, принявши их на свой счет… Но, впрочем, – пусть их принимают, если им это нравится; мы, собственно, никого лично не хотим оскорблять, а напраслину терпеть от литературных собратий нам уж не привыкать стать. Итак, попробуем объяснить, в чем дело.
Литература теперь в моде. В каждом новом предприятии промышленном, в каждой экспедиции, в каждом новом учреждении – литератор так же необходим, как бывал в прежние времена необходим генерал со звездой на московской купеческой свадьбе. Нас это очень радует; это добрый знак для литературы, а следовательно, и для образованности. Но такое новое отношение к обществу налагает на литераторов и новые обязанности. Прежде они могли довольствоваться фразами и дивить публику изяществом слога; теперь они должны понять, что от них не этого ждут. Литература становится элементом общественного развития; от нее требуют, чтобы она была не только языком, но очами и ушами общественного организма. В ней должны отражаться, группироваться и представляться в стройной совокупности все явления жизни. И именно с жизнью, с делом, с фактом должен иметь прямое отношение каждый, кто хочет выступить ныне в публику в качестве литератора… К сожалению, немногие понимают это; большая часть полагает, что достаточно одних внешних форм для того, чтобы вести дело литературным образом. И вот подобные-то господа, постоянно оказываясь негодными на деле, унижают собою литературу, бросают на нее тень подозрения и делают то, что общий вид литературных явлений за известный период представляется наконец смешным всякому здравомыслящему человеку, а для человека злонамеренного дает повод провозгласить его даже гибельным и опасным. Не потому у нас все так плохо начинается, чтобы не было людей истинно дельных и живых; но потому, что большинство общества, даже литературного, до сих пор еще бросается на громкие фразы, благоговеет перед цитатами и цифрами, не разбирая их, и постоянно вверяется тем, кто громче и самоуверенней говорит… А эти-то люди и оказываются пустыми крикунами, мертвыми формалистами, литературными чиновниками, неспособными не только прочно основать какое-нибудь дело, но даже начать его без нелепости… Люди же серьезные обыкновенно сидят в углу и делают какую-нибудь незаметнейшую работу… Отчего они равнодушно смотрят на проделки разных посредственностей, выдающих себя за передовых людей, трубящих о своих подвигах, берущихся за все очень рьяно, но портящих будущность всякого дела, за которое берутся; отчего эти серьезные люди сами не становятся сразу во главе передового движения, – это уж надобно объяснять болезненно развитым в них самолюбием: они настолько самолюбивы, что не хотят браться за дело, которое можно сделать только вполовину, и настолько умны, что не могут уверить себя в возможности сейчас же сделать его вполне… Разумеется, это нехорошо, потому что другие и вполовину-то не делают, а только портят. Но что же делать? Этого уж не переделаешь.
Таким образом, в пустячности нашего так называемого прогресса по всем частям оказываются виноваты всего более те же самые господа, которые всего более кричат о нем. Переступивши куриным шагом через какую-нибудь мизерную щепочку, они немедленно провозглашают, что сделали великий шаг вперед; им верят и успокоиваются, стоя на месте и воображая, что – ведь уж много прошли… Так мало-помалу и усыпляется энергия в обществе, как постоянною лестью усыпляется талант, начинавший было работать над самим собою. И покамест еще нет дела – все идет гладко, шумно, весело; как дошло до дела – все пропадает прахом.
Вот хоть бы и в настоящем случае… Г-н Перозио сам весьма торжественно вызвал г. Смирнова на состязание; а потом сам же не захотел докончить его и тем – если в не повредил делу устного судопроизводства, то все же сделал большую неприятность публике. Г-н Смирнов, с своей стороны, возвещал, что он г. Перозио считает школьником, которого надо экзаменовать из арифметики; г. Серно-Соловьевич (а может быть, и другой из посредников, – мы хорошо не помним) во всеуслышание сделал нотацию г. Перозио, что, принимаясь писать обвинительную статью, надо прежде приобресть кой-какие специальные сведения… Очевидно, что они весь спор считали – 1) личным делом своих самолюбий, 2) делом канцелярским, а не общественным… Но что же вышло? Здравый смысл не мог допустить, чтобы образованную публику собрали единственно для потехи г. Смирнова, желавшего иметь побольше свидетелей того, как он собьет г. Перозио на арифметике. И вот, несмотря на «Условия», г. Полетика, более практический и дельный человек, – стал давать новые соображения, представлять свои факты; противники же его, держась программы, упорно настаивали на том, чтобы не выходить из буквы статьи г-на Перозио. И вышло, что самое дело осталось в стороне, а вся эта суматоха, поднятая по городу неосторожно провозглашенным названием гласного и устного судопроизводства, превратилась в комедию, в которой действующие лица никак не могли понять друг друга, – и одни хотели толковать о сущности обвинений, другие – о литературных приемах г. Перозио. Не полезнее ли было бы явиться в это собрание людям, серьезно знакомым с делом, и говорить о самой сущности дела, оставя в стороне личную раздражительность г. Смирнова, литературную неумелость г. Перозио, наклонность к красноречию г. Серно-Соловьевича, и пр. Поверьте, что, говоря о деле, не могли бы так раздражаться обе стороны, решение было бы чем-нибудь существенным, а свойства статей г. Перозио выказались бы сами собою в весьма ярком свете… Теперь же в большинстве публики и после заседания, и даже хотя бы оно кончилось нормально – не осталось решительного и ясного убеждения относительно всех пунктов дела. И кончилось тем, что – вместо устного и гласного разрешения – публике при выходе неизвестные люди тыкали в нос какую-то брошюру против г. Перозио, изданную в Одессе и потом перепечатанную в Петербурге. Брошюрка раздавалась бесплатно: чьему бескорыстию мы этим обязаны – не знаем…
Подобным образом содействовать движению общественных вопросов не захотел бы ни один порядочный человек, потому что это значит у нас только портить их будущность. И мы надеемся, что все, кому истинно дороги истинные наши успехи в гражданской жизни, не примут на себя (несмотря на авторитет Е. И. Ламанского) круговой поруки за все, происходившее в зале Пассажа 13 декабря. Даже мы, чистые литераторы, – готовые с радостию вписать турнир этого дня, и особенно красноречие г. Серно-Соловьевича, в скрижали истории литературы для прославления наших дней в потомстве, – мы никогда не согласимся, чтобы по этому неудачному столкновению личных самолюбий, не ведающих, что творят, можно было судить о степени подготовленности нашего общества к устному и гласному судопроизводству.
Примечания
Впервые – Совр., 1859, № 12, отд. III, с. 403–422, подпись: «Н. Т – нов». Вошло в изд. 1862 г.
Статья выражает одну из особенностей реальной критики Добролюбова, которой, по его словам, необходимо придать «практический характер». Повод для статьи – привлекшая внимание различных общественных кругов открытая дискуссия о деятельности акционерного общества пароходства и торговли, состоявшаяся в петербургском зале Пассажа 13 декабря 1859 г. Ей предшествовала дискуссия в печати: статья-отчет директора компании Н. А. Новосельского «Сравнение русского общества пароходства и торговли, французской компании «Service maritime» и австрийского «Ллойда» (Морской сборник, 1859, № 10), говорившая об успехах «Общества», и в противовес ей написанные обличительные статьи экономиста П. П. Перозио (СПбВед., 1859, № 230, 239 и др.; БдЧ, 1859, № 7), утверждавшие, что статья Новосельского построена на произвольных фактах, которые расходятся с данными отчета общества за 1858 г. Новосельского поддержал в печати его сослуживец А. И. Смирнов. На публичный диспут Перозио – Смирнов для третейского разбирательства обеими сторонами были приглашены «посредники», видные публицисты, экономисты. Идею диспута в Пассаже одобрял Н. Г. Чернышевский (см.: Чернышевский, X, 54). Главным арбитром был избран известный экономист, финансист Е. И. Ламанский. А. Н. Пыпин вспоминал: «Диспут происходил вечером. На другое утро Добролюбов приходит к Чернышевскому поговорить об этом; он находил, что этого случая не надо бы пропустить в «Современнике»; Чернышевский соглашался, но думал, что это надо будет отложить до следующей книжки, так как теперь уже поздно будет писать статью. Но, к удивлению Чернышевского, оказалось, что статья уже написана: она могла быть напечатанной в той же очередной книжке журнала» (Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, с. 226).
Статья Добролюбова написана в пародийной, фельетонной манере. Диспут с претензией на гласность, на публичное выяснение истины Добролюбов представляет «литературным турниром», литературно-театральным действием, не случайно потерпевшим фиаско. Статья разоблачает демагогическую суть гласности, не подкрепленной реальными делами. Заключительная часть статьи дает широкую трактовку литературного дела, его многосторонних связей с жизнью, с ее конкретными фактами и событиями.
Добролюбов возвращался к теме статьи, ее героям в сатире «Наука и свистопляска» (Свисток, № 4; VII, 394–416). Статья вызвала полемику: Серно-Соловьевич Н. Несколько слов по поводу спора гг. Смирнова и Перозио (Журнал для акционеров, 1860, 3 февраля). Со статьей Добролюбова, однако, считалась и либеральная публицистика (см.: Громека С. С. Общественное мнение и акционерная гласность. – Век, 1861, № 9).