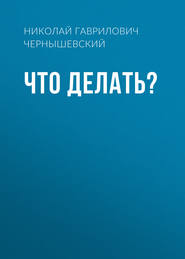По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Терпеливая Россия. Записки о достоинствах и пороках русской нации
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Терпеливая Россия. Записки о достоинствах и пороках русской нации
Николай Гаврилович Чернышевский
Кто мы?
«Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для деятельности пассивные добродетели никуда не годятся», – писал Н.Г. Чернышевский.
Один из самых ярких публицистов в истории России, автор знаменитого романа «Что делать?» Чернышевский много размышлял о «привычках и обстоятельствах» российской жизни, об основных чертах русской нации. Для того чтобы устранить ее «нравственные патологии» нужно изменить сами условия жизни, говорил он, имея в виду как экономические, так и политические факторы. Об этом его статьи, которые приводятся в данной книге.
Николай Чернышевский
Терпеливая Россия. Записки о достоинствах и пороках русской нации
© Чернышевский Н.Г., 2022
© ООО «Издательство Родина», 2022
Пролог. «Нация рабов»
(из романа Н.Г. Чернышевского «Пролог»)
Мы помним, как великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения».
В.И.Ленин.
«О национальной гордости великороссов»
…Волгин был угрюм потому, что им овладела грусть.
Он не был мастер наблюдать и был близорук. Но разве слепой не видел бы, что такое на душе у этих людей: не за два десятка шагов, за полверсты можно было бы разгадать это, хоть бы и не разбирая их лиц, по самым фигурам их.
Бессмыслие, бессилие, беспомощность.
Так должны глядеть, стоять, двигаться приговоренные к смерти.
Некоторые старались показывать, что они бодры, в хорошем настроении. Говорили, шутили, были очень развязны. Но огромное большинство было не в силах и заботиться скрывать свое уныние: – «Мы агнцы, обреченные на заклание. – Что мы можем сделать против такого жестокосердного решения? – Только идти на заклание смирно, чтобы хоть не колотили нас прежде, нежели возложат нас на алтарь отечества, – и не упираться, когда станут возлагать, чтобы хоть возложили без лишних пинков».
Волгин никогда не имел сношений с этими людьми. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Если б Волгин жил и не в Петербурге, – если б он провел эти последние полтора, два года на самом пустом из Алеутских островов, – и туда, вероятно, доносились бы до его ушей храбрые крики: «Нами держится все! – Не позволим, не допустим! – Не хотим, и не посмеют!» Теперь они присмирели, будто разбиты параличом…
Волгину было смешно: он привык обращать все в шутку, – умную или глупую, как приведется, веселую или горькую, все равно, лишь бы в шутку. Но ему не было отрадно.
Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой, бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве, потому что и в детстве он уже был глубокомыслен.
Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: «Город в опасности, – вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке». Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом:
– Скоты, чего разорались? Вот я вас!
Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится, – еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что как они «веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», – разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцов: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек, бедные, искалечатся.
Будочник, понюхав табаку, говорит:
– Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня, старика, не вводите в сердце.
И затворяется в будке, – и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек.
В детстве Волгин приходил в недоумение от этих сцен, зато теперь находил, что незачем было ему и видеть живую картину, представляемую гостями Илатонцева незачем; вперед было известно, какая это будет картина.
Но хоть вперед было известно, какая она будет, все-тики она произвела на него глубокое впечатление. Будучи основательным мыслителем, он не винил себя за то, что взволновался от впечатления, к которому был готов от самого начала храбрых воплей: «Не позволим! Не допустим!» – Он знал, что представляющееся глазам действует сильнее воображаемого; потому и находил естественным, что расчувствовался.
Расчувствовался невесело: хоть и не любил ни вообще дворянства, ни магнатов в частности.
«Жалкая нация, жалкая нация! – Нация рабов, – снизу доверху, все сплошь рабы…» – думал он и хмурил брови.
* * *
Он не любил дворянства. Но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов? – И теперь на него нашло такое настроение.
И потому ему мечталось теперь, что эти жалкие люди не виноваты в нищете и страданиях народа и что не было бы надобности уменьшать их доходы ни на одну копейку, – пусть бы себе благоденствовали по-прежнему, ни на одну минуту не прерывая своих возвышенных наслаждений псами и новыми каретами, попойками и цыганками, – зачем тревожить, зачем обижать? Они не виноваты ни в чем и ничему не мешают.
Они ли могут мешать? – Они хотят только пить, мотать и бездельничать. Они ли виноваты? – Кому же не приятно брать то, что ему дают, – кому же нравится терять доходы?
Как легко было бы не огорчать их! – Стоило бы только гарантировать им их доходы. Подобная гарантия тяжела, быть может неудобоисполнима у наций, где поземельный доход уже высок и не может подыматься быстро. А у нас? В пять лет удвоились бы, в десять – учетверились бы средства нации, лишь бы освобождение было полное и мгновенное, по мыслям народа, который говорит: – «Господа пусть уезжают из деревень в города и получают там жалованье», несколько лет, небольшие займы, с каждым годом меньше – и через десять лет что значило бы государству выкупить эти нынешние нищенские ренты?
Когда Волгин бывал чувствителен, он фантазировал в этом вкусе. – Правда, он не всегда бывал чувствителен.
Но теперь был. Потому фантазировал.
Правда и то, что когда фантазировал, он помнил, что только фантазирует по чувствительности своего сердца. Потому он берег для собственного удовольствия свои буколические соображения, а в разговорах рассуждал несколько в ином вкусе: он не забывал, что история – борьба, что в борьбе нежность неуместна.
Правда, он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?
Так или нет вообще, но о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них.
Потому-то он и улыбался с угрюмою ирониею, размышляя о том, какую буколику строит он в пользу помещиков и как несходно с нею то, что они не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа.
Должно; и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука.
Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение – злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; – противно, обидно за справедливость, – и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен…
Неужели мы так уродливо созданы?
«Время слепых привязанностей миновалось»
(Из статьи «Апология сумасшедшего». Замечания о записках П.Я. Чаадаева»)
«Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось».
П.Я. Чаадаев
Печатая записку П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников, мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год. Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.
Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, стр. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году. Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга, в мае 1820 года, оказал важную услугу. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философиею, и по возвращении на родину, в 1826 году, поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались, по понедельникам, почти все мыслящие люди. Искусство сближать людей и красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя однажды посетил его».
Николай Гаврилович Чернышевский
Кто мы?
«Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для деятельности пассивные добродетели никуда не годятся», – писал Н.Г. Чернышевский.
Один из самых ярких публицистов в истории России, автор знаменитого романа «Что делать?» Чернышевский много размышлял о «привычках и обстоятельствах» российской жизни, об основных чертах русской нации. Для того чтобы устранить ее «нравственные патологии» нужно изменить сами условия жизни, говорил он, имея в виду как экономические, так и политические факторы. Об этом его статьи, которые приводятся в данной книге.
Николай Чернышевский
Терпеливая Россия. Записки о достоинствах и пороках русской нации
© Чернышевский Н.Г., 2022
© ООО «Издательство Родина», 2022
Пролог. «Нация рабов»
(из романа Н.Г. Чернышевского «Пролог»)
Мы помним, как великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения».
В.И.Ленин.
«О национальной гордости великороссов»
…Волгин был угрюм потому, что им овладела грусть.
Он не был мастер наблюдать и был близорук. Но разве слепой не видел бы, что такое на душе у этих людей: не за два десятка шагов, за полверсты можно было бы разгадать это, хоть бы и не разбирая их лиц, по самым фигурам их.
Бессмыслие, бессилие, беспомощность.
Так должны глядеть, стоять, двигаться приговоренные к смерти.
Некоторые старались показывать, что они бодры, в хорошем настроении. Говорили, шутили, были очень развязны. Но огромное большинство было не в силах и заботиться скрывать свое уныние: – «Мы агнцы, обреченные на заклание. – Что мы можем сделать против такого жестокосердного решения? – Только идти на заклание смирно, чтобы хоть не колотили нас прежде, нежели возложат нас на алтарь отечества, – и не упираться, когда станут возлагать, чтобы хоть возложили без лишних пинков».
Волгин никогда не имел сношений с этими людьми. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Если б Волгин жил и не в Петербурге, – если б он провел эти последние полтора, два года на самом пустом из Алеутских островов, – и туда, вероятно, доносились бы до его ушей храбрые крики: «Нами держится все! – Не позволим, не допустим! – Не хотим, и не посмеют!» Теперь они присмирели, будто разбиты параличом…
Волгину было смешно: он привык обращать все в шутку, – умную или глупую, как приведется, веселую или горькую, все равно, лишь бы в шутку. Но ему не было отрадно.
Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой, бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве, потому что и в детстве он уже был глубокомыслен.
Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: «Город в опасности, – вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке». Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом:
– Скоты, чего разорались? Вот я вас!
Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится, – еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что как они «веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», – разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцов: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек, бедные, искалечатся.
Будочник, понюхав табаку, говорит:
– Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня, старика, не вводите в сердце.
И затворяется в будке, – и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек.
В детстве Волгин приходил в недоумение от этих сцен, зато теперь находил, что незачем было ему и видеть живую картину, представляемую гостями Илатонцева незачем; вперед было известно, какая это будет картина.
Но хоть вперед было известно, какая она будет, все-тики она произвела на него глубокое впечатление. Будучи основательным мыслителем, он не винил себя за то, что взволновался от впечатления, к которому был готов от самого начала храбрых воплей: «Не позволим! Не допустим!» – Он знал, что представляющееся глазам действует сильнее воображаемого; потому и находил естественным, что расчувствовался.
Расчувствовался невесело: хоть и не любил ни вообще дворянства, ни магнатов в частности.
«Жалкая нация, жалкая нация! – Нация рабов, – снизу доверху, все сплошь рабы…» – думал он и хмурил брови.
* * *
Он не любил дворянства. Но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов? – И теперь на него нашло такое настроение.
И потому ему мечталось теперь, что эти жалкие люди не виноваты в нищете и страданиях народа и что не было бы надобности уменьшать их доходы ни на одну копейку, – пусть бы себе благоденствовали по-прежнему, ни на одну минуту не прерывая своих возвышенных наслаждений псами и новыми каретами, попойками и цыганками, – зачем тревожить, зачем обижать? Они не виноваты ни в чем и ничему не мешают.
Они ли могут мешать? – Они хотят только пить, мотать и бездельничать. Они ли виноваты? – Кому же не приятно брать то, что ему дают, – кому же нравится терять доходы?
Как легко было бы не огорчать их! – Стоило бы только гарантировать им их доходы. Подобная гарантия тяжела, быть может неудобоисполнима у наций, где поземельный доход уже высок и не может подыматься быстро. А у нас? В пять лет удвоились бы, в десять – учетверились бы средства нации, лишь бы освобождение было полное и мгновенное, по мыслям народа, который говорит: – «Господа пусть уезжают из деревень в города и получают там жалованье», несколько лет, небольшие займы, с каждым годом меньше – и через десять лет что значило бы государству выкупить эти нынешние нищенские ренты?
Когда Волгин бывал чувствителен, он фантазировал в этом вкусе. – Правда, он не всегда бывал чувствителен.
Но теперь был. Потому фантазировал.
Правда и то, что когда фантазировал, он помнил, что только фантазирует по чувствительности своего сердца. Потому он берег для собственного удовольствия свои буколические соображения, а в разговорах рассуждал несколько в ином вкусе: он не забывал, что история – борьба, что в борьбе нежность неуместна.
Правда, он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?
Так или нет вообще, но о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них.
Потому-то он и улыбался с угрюмою ирониею, размышляя о том, какую буколику строит он в пользу помещиков и как несходно с нею то, что они не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа.
Должно; и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука.
Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение – злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; – противно, обидно за справедливость, – и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен…
Неужели мы так уродливо созданы?
«Время слепых привязанностей миновалось»
(Из статьи «Апология сумасшедшего». Замечания о записках П.Я. Чаадаева»)
«Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось».
П.Я. Чаадаев
Печатая записку П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников, мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год. Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.
Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, стр. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году. Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга, в мае 1820 года, оказал важную услугу. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философиею, и по возвращении на родину, в 1826 году, поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались, по понедельникам, почти все мыслящие люди. Искусство сближать людей и красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя однажды посетил его».