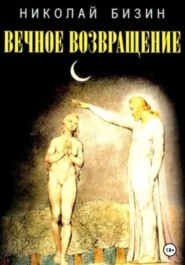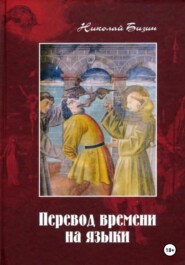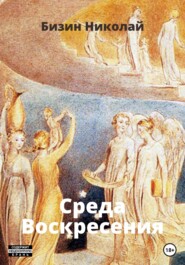По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Deus ex machina
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она быстро, но не теряя некасаемости, взглянула.
– Да, ты хороший боец, – повторил он, признавая ее нездешнюю (не как Элд, конечно, но – особенную) прелесть; повторил, словно бы узнавая в ней Небесную Деву – ту, которую боги посылают к смертным мудрецам! Дабы мудрствованиями своими не сбивали их с толку (вот как сбивают с ног), дабы не путались под ногами небожителей…
Он сделал движение кистью, сжимавшей меч из минойской бронзы:
– Мы будем биться на равных.
– Неужели ты снизойдешь? – стоявшая перед ним женщина соизволила язвить!
– Ты знаешь, что именно честь отдает меня в твои руки. Но ты хороший боец.
Трижды он повторил заклинания и заклял себя. Потом движением левой ладони от запястья он как бы отстранил от себя «сказанное» и тем самым «остранил» его (отделил от реальности ведьмы и даже – от реальности березовой рощи), и тем самым оставил себе из всего только «несказанное» (где ударение – на третьем слоге и почти никакого отношения не имеет к непостигаемой Троице); потом он опять сделал движение мечом – минойская бронза обернулась кареглазою смертью! Потом он стал вращать меч – тот перекинулся Мертвым морем, кружащим вокруг человека Моисея…
– Каково это, быть кем-то вроде мессии и каждый день выслушивать одни и те же человеческие разговоры об одних и тех же унылых ошибках… Каково ЭТО, эльф? – спросила ведьма, давая понять, что речь меча ей понятна.
– Благородный Эльф из Элда! – продолжала она наступать. – Как и все мы, ты мастер именно единоборства, но сейчас мы – в реальности, потому – не одни! Конечно, ты согласен стать на одну доску со мной, то есть стать уязвимым, но что если тебя не убьет бесконечное «если» этого мира, а ты все еще будешь пребывать на доске? Согласишься ли ты на аутодафе, ибо дерево наиболее для него пригодно…
Эльф молчал.
– Тогда и только тогда, – продолжала она наступать. – мы могли бы быть вместе (извечное женское предложение, но – с извечными условиями), если мы вообще (ты понимаешь, о чем я) что-то можем в этой пошлой реальности… Впрочем, ты-то не один, мастер якобы ЕДИНОБОРСТВ: между тобой и птолемеевой плоскостью моего бытия пролегают четыре (вовсе не три каких-то там кита) копыта твоего прекрасного скакуна! Я не могу силой взять их у тебя, но хочу теперь, чтобы ты сам – подарил… Я вовсе не собираюсь (поскольку я не некий Прутков) опускать тебя на плоскую землю, поскольку (в отличии от тебя) предпочитаю обходиться без посредников, а именно и сразу обходиться тремя китами, которые сами по себе непосредственны.
– Ну вот и поговорили, – улыбнулся, подводя итог поединка, «Лиэслиа» – то есть сейчас подводил итог единоборства не сам эльф Серая Крепость, а «звуки» его имени, произносимые на кельтском наречии; Перворожденный опустил клинок из минойской бронзы – то есть вознесенное его место опустело! Потом спросил, совершенно не нуждаясь в вопросах:
– Ты позволишь мне следовать дальше, – вопрос был утвердителен, и Ночная Всадница, не нуждавшаяся в лошадях (лишь доколе не возжелает попробовать перекинуться в малые боги – и нет у ведьмы другого пути!), точно так же не стала утверждать (ведь глаза не умеют не видеть) предстоящую очевидность:
– Мои псы последуют за тобой, они будут ждать и дождутся тебя, – разумеется, это тоже само собой разумелось; разумеется, она сказала еще, причем подсказываемое не только рассудком:
– Ты так и не полюбил смертную девушку, – но подразумевала ли ведьма себя (в одной из ипостасей Небесной Девы), или действительно в ее изысканиях (не только от слова «изыск») возникла потребность в восхитительной похоти – всего этого договаривать не следовало! Поэтому она не удивилась ответу эльфа:
– Сейчас я был счастлив иначе.
Она не удивилась бы оковам, сковавшим (из песни Б. Г. «Мы связаны с тобой цепью») Раскольникова и Мармеладову, как никогда не дивилась моему Петербургу, в котором самым разумным было безумие Мышкина, когда он в Швейцарии… В чарку вины, ласточки, не уроните глупого эльфа!
– Но Благородный, – сказала она – некоторая насмешливость в этом слове сейчас вполне приличествовала этому созданию, именуемому «ведьмой» (да и кто может быть саркастичней пешей Ночной Всадницы?); опишем ее: ее головка, чья крепость сопоставима с крепостью Трои, ее волосы, чья длинна сопоставима с длинной волос дев троянских, что пошли на тетивы луков защитников города – ее голова увенчана неким подобием берета, по всей окружности которого страусиные (и в средние века неизвестные) перья демонстрируют мягкость ее характера! Но чтобы не свалился он с головы, берет укреплен под подбородком девицы голубою тесьмой.
Большие карие глаза под благороднейшими дугами бровей действительно были по оленьи большими, причем дуги бровей изящно перетекали в очертания носа, под которым располагались нецелованные губы, вполне способные произнести легчайшую хулу и мерзость:
– Благородный! – повторила она. – Конечно же, ты вполне благороден. Или, может статься, и тебе (кинь в себя камень, безгрешный) ведомо нечто постыдное о твоих родственниках или соплеменниках? – выговорила она все это весьма резво: у ее ножек бархатная кожа, поскольку карие глаза так бархатисты – но взгляд ее бежит, как бы по льдистой скользя поверхности! Его голубизна (как и минойская бронза клинка Лиэслиа) как будто в ножнах.
Она спросила еще:
– Это с ними ты был бы (как сместила она «был» и «сейчас»!) иным? – это прозвучало, обманывая, как якобы прохладный ветерок в степи, в которой раскинулась беззащитная березовая рощица, совершенно отличная от бархата ее ножек, легко и до самых пят прикрытых подолом платья… Этот ветерок степи могу бы спросить у эльфа, не колыхнувши подола:
– Это с нею ты был бы счастлив иначе? – спросила бы его ипостась Стихии, и эльф должен был бы уважить ее вопрос! Но (на деле) эльф не может уважать ипостась, то есть определенную функцию, Ибо бессмысленно уважать прилагательное без самого существа – в той ирреальной иерархии, где мы единственно существуем…
– Откуда ты знаешь?
– …, – ответила ему ипостась и рассмеялась, ибо в ответ он получил только серебряный смех: как он тенист, как он ручьист, каков он родников! Каков с оковами и вовсе без оков: смех над грехом-ха-ха, над святостью-ха-ха, над вечною любовью-боже-мой, кочан капустный – лист за листом снимать пустые потроха… Смех рассмеялся эльфу, как бы говоря ему:
– Слова говоришь, Благородный, вопросы задаешь? Юлишь! – торжествуя, смеялся смех – Стало быть, и тебе ведомо нечто постыдное о твоих родственниках!
Так встретились они, эльф и пешая Ночная Всадница (или могли бы встретиться, что означает были оба должны, но – кому или чему?) – как два в своем роде прекрасных изображения на средневековой гравюре, которым не надо ЛИШНЕГО, поскольку сами они – лишние, иначе, ДОБАВЛЕНИЕ к плоти, как добавлена к ней душа… Потом эльф ощутит уважение к противнику, важность его мужества и прилагательностью его умений, но это потом – как люди смывают едкий пот после битвы.
Тонкий минойский (то есть несколько старше средневековья) клинок Лиэслиа словно бы сам по себе пронзил грудь ведьмы и вышел (или выглянул) из ее спины: рука ведьмы медленно разжалась, и ее меч (тоже красиво полетевший в сторону эльфийского сердца), на лезвии которого не менее красиво был выписан ряд маленьких золотых лилий, выпал из ее нежной ладошки – так завершился этот неслучайный бой, скоротечный и прекрасный, но совершенно обыкновенный! Ибо всадник (ибо эльф всегда отделен от плоти любых поражений) обыкновенно и совершенно поразил пешего.
Стоило клинку быть извлеченным, как ведьма медленно опустилась на землю – оставив после себя прекрасную о себе память, которая больше чем плоть! Чтобы поразить ведьму, эльфу пришлось бросить тело вперед и припасть к гриве коня. Но по завершении поединка стало казаться, что это Аодан подошел к нему сзади и ткнулся в плечо (как в ладонь с краюхой), и Лиэслиа повернулся к нему и обнял за шею.
– Противник был силен и честен, и обречен, – сказал эльф. Потом он опять обернулся к сраженной всаднице и признался ей:
– И невыносимо прекрасен…
Своеобразие вызывает к жизни своеобразие, позволяет перекинуться в новые образы, в новую (но очень свою) природу, но – не только! Вместе с ним является своеволие, и тогда оно как старое тело с новой душой: новая душа постепенно и (как это ни удивительно) сразу же делает старое (достаточно его лишь вспомнить) новым… Но этого мало, ибо люди (да и не только они) наделены даром самунижения, способны делать Несравненное недоступным – для этого им достаточно лишь начать говорить! Они начинают и не заканчивают, полагая, что истина как про-пасть лежит между противоположными мнениями, то есть мало что мнят-и-мнут о себе и себя (Бог с ними, что ложно), но еще и предполагают между собой эту плотоядную пасть говоренья.
Верю-верю я всякому зубастому зверю человеческих качеств: верю в непоправимо вульгарное и невыносимо прекрасное! Но кого хвалят или хают, с тем ставят себя вровень; но отдавать должное – не означает хвалить или хаять, ибо здесь и сейчас исполняют не только себя… Это я знаю для себя и поэтому никогда не был богом, разве что мнил себя убитым. Господи! Когда кто-нибудь кого-нибудь когда бы то и где бы то ни было самоубивает, понимайте, что душа само-и-убийцы просит себе у многожды себя большего хоть какого-нибудь места под солнцем.
Напротив, честное убийство не есть домогательство, но – поединок, то есть мера себя; рассмотрим пример честных (что означает частичных) убийств: ее, вступившую в свой поединок женщину , звали Янна (а на самом деле, конечно же, иначе), что на язык смертных (то есть частичных) людей никак не переводилось, ибо она сейчас и не навсегда была смертною крепостной девчонкой лет пятнадцати от роду в провонявших мороженой рыбой штанах; в волшебной (но немногим отличной от нашей) реальности могла она быть королевой Ель, нагой и чумазой – после выигранного (но все равно что проигранного) сражения обессиленно упавшей в пыль, но так и не выпустившей из руки минойский (даже если она и не знает, что это такое) клинок…
Напротив нее – здесь что-то от сердечного выплеска! – присела простая человеческая святая, предположим, какая-нибудь Игнатия или Епифания, или просто сестра милосердия – когда она ухаживает в холерном бараке своего мироздания! Но именно в холерном бараке совершаются (вместе с дерьмом и кровью) выжимки человеческих сутей из человеческих тел; впрочем, сейчас она была сиротой под опекой общины, тонким и жилистым некрасивым человечьим зверенышем (почти как мы, что проморожены культурой насквозь) в рыбацких, то есть провонявших рыбьими потрохами штанах и рваной клетчатой рубахе (откуда подобное в русской деревне начала девятнадцатого века? А не все ли равно! Главное, что это подробно) – но именно благодаря ей тягучая как прозрачный мед (тоже цвета минойской бронзы) жизнь эльфа Лиэслиа так и осталась счастливой, но – иначе…
В самый первый миг нападения, когда мародеры Императора Французов со всех сторон (то есть еще и сверху, и снизу – то есть буквально, ибо все есть Слово) вошли в деревню, но – здесь мы на миг отступим от этого «мига»! Отступим от событий, которое мародерам (ах как они побегут из этой страны!) еще только предстоят: вот так же и половодье входит, чтобы отступить – тогда хорошо понимай, что для тебя наступила весна (то есть твое изменение и твоя измена); тогда хорошо понимай, что для тебя весна – постоянна; то есть считай, что для тебя весны как бы и нет – и тогда ты сможешь сделать с этой весною ВСЕ… Впрочем, мы никуда не торопимся.
Итак, в самый первый миг нападения, когда мародеры со всех сторон вошли в деревню – действительно, они казались продолжением водяной стихии: сначала просочился лазутчик, потом остальные – вломились! Становилось понятно, почему на Янне штаны и рубаха, провонявшие уже не потрохами, но – мороженой рыбой; время заледенело, в нем встали во весь рост ловцы человеков, и единственным выходом стало – выйти из времени, стать все еще человеком…
В первый миг нападения Янна спала и – сразу проснулась, меняя пластилиновость только что владевшего ею сна на необожженную, но недостаточно влажную глину реальности – то есть к гончарному кругу постоянно посещавших ее повседневность дежавю еще непригодную… И началось! Россыпью (как о стену свинцовый горох), то есть со вполне бесполезным, но еще очень опасным визгом стали метаться женщины – своим рикошетом разя обывателей; тени их прерванных снов путаются у них под ногами и прямо указывают, что нашествие на деревню состоялось не утром или вечером, а в обыкновенный час отдыха после трудов и трапез – по мосту из этих теней мог бы проскакать Аодан!
В первый миг пробуждения ( то есть возвращение в Екклесиаст с его дежавю) Янна еще спала, разумеется, и сон не торопился уйти – хотя был уже прерван! Так что случилось странное – сон во сне; сна уже не было, но он продолжался: сон во сне словно эльф на коне – и Лиэслиа мог бы прийти по этому мосту и, значит, эльф не мог не прийти… Он, как и мародеры, тоже вошел отовсюду, поэтому не то чтобы сразу ВСЕ увидел, но – увидел ВСЕМ, то есть не как некий Аргус: мухи отдельно, котлеты отдельно… Увидел, что от топота подкованных сапог невыразимо разило чесноком! Причем мародеры не то чтобы разили всех налево и направо, но – были заразны. Поскольку были они безо-и-небезобразны.
Всех, способных оказать сопротивление – резали превентивно! То есть резали примитивно и по простому; что есть рукопашный бой? Это просто: ударь и убей сразу, то есть по своему честно, то есть совершенно по своему – именно поэтому резали всех, способных хотя бы потянуться за оружием, хотя бы сделать движение. – то есть не обмереть! Не перебраться из жизни в малую смерть и там переждать негаданный ужас, но – остаться и умереть… Что есть такая смерть, когда ты стал героем и умер? Не знаю, но – некто входит в ваш дом, чтобы им овладеть; но – утро бросило лед и медь сквозь осенний прем в окна – и более никаких фанфар, никаких медных труб! Но все, окружившее вас, непоправимо вульгарно: и не уйти от того, что льнет и окружает, и не прийти к ускользающему – даже если уже ты все еще человек!
В это время (время, когда эльф вошел в деревню – когда пробудилась Янна, и ее непробудившаяся явь, ее сон во сне позвали эльфа!) некий мародер Императора Французов (но по природе своей италиец), этот некий человек прозвищем и сутью Рыхля (нечто вроде недостаточно разведенного теста из глины, когда оно совсем без души) быстро, но тщательно геройствовал в тщательно выбранной им избе; прочий разбойный народец (народ, известно, всегда рыхл, если нет в нем некоей добавки к плоти – порою это душа!) кое-где встретил-таки сопротивленьице – не то чтоб как мы в 41-м навалили перед чужою броней гору трупов, нет! Но все же, все же… – впрочем, деревушка была невелика, и не было рядом с ней никакой Волги, чтоб упереться лопатками и огрызнуться выбитыми зубами… Но все же, все же! Кто-то честно погиб, а кто-то и бесчестно, то есть у нас все по прежнему.
Итак, пока некий человечный человек Рыхля, по природе своей италиец и почти возрожденец, обстоятельно набивал свой мешок, исполненный в виде солдатского ранца (где рядом с маршальским жезлом всегда отыщется место наличным – как и каиновой печати на лице местечко всегда сыщется!), девчонка-подросток Янна полностью пришла в себя – здесь требуются пояснения… Как девчонке, никчемушной сироте, и надлежало (деревня берегла себя, никакой педафилии, все в русле традиций), проживала в лачуге на самой окраине, и именно Рыхля первым заглянул в лачугу и убедился, что в ней нет ничего достойного внимания, и ринулся дальше, каинов ранец за собой волоча, но – уже разбудил; стало быть, даже ничтожнейший из ничтожных может быть одной из причин прихода эльфа и возможных перемен природы? Разумеется, ибо все может быть.
И еще раз о пройденном: может показаться странным, что на иждивенце деревни, рядом с которой нет никакой тебе Волги, рыбацкие штаны, пропахшие мороженой рыбой и клетчатая (Боже мой, смешения эпох и культур стали в этой истории бытом!) ковбойка – но еще более остраненным оказалось явление эльфа! Особенно то, что он не стал вмешиваться в побоище и грабеж, но безо всяких сомнений стал причиной их мнимости.
Мнимость(как и масть коня Аодана, которой нет вовсе) любого побоища обычно и привычно состоит в том, что на самом деле никакого побоища нет и что убиваемые обычно ничем не лучше убийц – такая вот банальность! Такое вот общее место для блатного сходняка, где никто ничего по сути не решает, но все так или иначе друг друга режут… Когда Лиэслиа послал свою первую стрелу (то есть – действительно отделил от себя, ибо молчал, не вмешался – вмешалась стрела!) в дергающуюся спину «какого-то и кого-то», кто насиловал женщину, то стрела (как и была) осталась прекрасна, но из Элда ушла навсегда.
Когда Лиэслиа послал свою вторую стрелу, которая намного опередила первую, которая ушла далеко вперед во времени, ибо они в реальности могли бы встретиться и рассечь друг друга (словно ветка цветущей сакуры, рассекаемая хвостом кометы); но, поскольку обе уже ушли из Элда, получилось убийство: первая стрела просто-напросто расщепила вторую, уже вонзившуюся между лопаток насильника! А что сейчас Янна, главное, где она?
В то время как некий Рыхля (заметим, не убивший и не попытавшийся убить никчемного подростка) набивал барахлом свой никчемный (вот как трубку табаком набивают, чтобы пустить на воздух) маршальский ранец, он вдруг ощутил некое беспокойство и прервал его набивание; в то время, как никчемная девочка-подросток после пережитого ею пробуждения и испытанного сразу же ужаса впервые глотнула воздух (как рыба, чей замороженный запах на ее рыбацких штанах) – как если бы рыба, оставшись без своей водяной атмосферы, вдруг сумела запеть – в это время или в то, но этот никчемный подросток из своей лачуги стал видеть сквозь стены! В то время – изменилось время.
– Уйти ото всего, что окружает
и льнет, и ускользает от тебя,
что вещи, как в потоке, искажает,
и нас и и отраженный мир дробя;