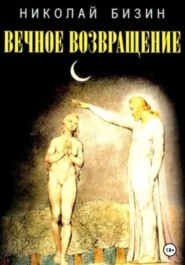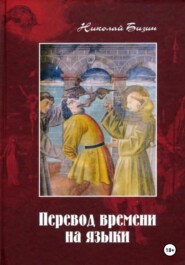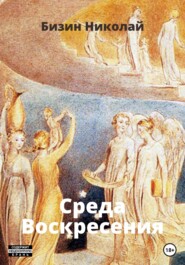По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Deus ex machina
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Жизнь эльфа, ступающего по голосам фуги (и ступающего голосами фуги), воплощена в магическом реализме эльфийского искусства; понять, ступают ли голоса фуги самим эльфом, не оказывается ли эльф теми ногами, которыми кто-то переступает в пространстве магического реализма; понять, кто есть этот «кто-то» и стать им, и настать (как настает есенинская осень или тает первый снег) в дальнейшем, и наступать дальше – вот зачем Перворожденным люди с их Первородным грехом, – сказал Эктиарн очевидное…
Так стояли они друг напротив друга и щеголяли клинками и щеголяли людьми, и щеголяли собой и своим (ибо оно всегда рукопашно, ибо оно всегда пашня) искусством, ибо люди и есть эльфы, потому Господин Лошадей (ты поворачиваешь свою лошадь и имеешь дело с последствиями) повторил очевидное:
– Холодное Железо или Холодная Бронза – не более чем горизонт, разделяющий богов и людей; эльфы (находясь и по ту сторону, и по эту) не должны ступать за горизонт.
– Тогда Серая Крепость (весь мир идет войной на островок внутреннего мира) ответил ему очевидным:
– Представь Буонарроти в его мастерской (весь в мраморной крошке и не моется месяцами); представь трубадура в его Провансе на бесконечном пути (чем не срок человеческой жизни?) от замка к замку и от одной прекрасной дамы к другой; представь Вийона меж кабаком и борделем ( и всегда грабителя и убийцу) на Большой дороге; представь восхитительных викингов… – интересно, к кому сейчас обращается эльф? К Господину ли Лошадей и людей или тем, кто им перечислен?
– Холодное Железо или Холодная Бронза – не все ли равно? И люди, и все еще люди всегда немыты и плотоядны.
И действительно, представьте восхитительных викингов (ведь глаза не умеют не видеть) на их плоскодонной, то есть почти птолемеевой посудине (но с драконьей головой на носу), груженой тухлым бочонком воды и тухлою солониной, и опять же месяцами немытых; представьте себе (и поставьте на их место себя) восхищенный вопль их вахтенного, который (по достижении очередного Винланда- некоей новой земли) обретает никем не превзойденное право заявить всему мирозданию:
– Именно я пришел сюда морями, которыми до нас никто не ходил… Поэтому здесь все – мое.
Представьте этот танец клинков (можно ли представить их плотоядными и месяцами немытыми?) – он ведется в таком темпе, который и необходим, и вместе с тем совершенно недостаточен, чтобы все сказанное мною об эльфах было и воспринималось как обычное бессмертие, обычная неуничтожимость; настоящий бой – это прежде всего честное убийство, то есть лишение души очертаний, могущих ее ограничить… Можно ли представить такую безграничную душу?
С другой стороны (ибо мир эльфов перевернут), обретение душой очертаний (или вдохнуть в глину дыхание жизни) – это тоже убийство, и его тоже можно именовать честным; с этой стороны первые люди давали неодущевленным вещам имена, навсегда заключая их в Имя, и так продолжалось до Грехопадения… И вот теперь люди дают вещам и друг другу маленькие имена – то есть вполне бесчестно вступают с этими вещами в бой, то есть вполне бесчестно убивают остальную бесчетность имен, то есть пробуют исследовать, чтобы стать богами. Ибо боги – наивысщие (и не ведающие о своей наивности) исследователи.
Таковы боги (ибо боги и есть наивозможные люди), высочайшие исследователи, которые рады убийству, для которых власть и все ее составляющие (ибо и власть у них дробится на дроби) – это уменьшать все более уменьшаемые имена, для которых в убийстве – свобода быть богами… Впрочем, для реального наблюдателя (который сам может перекинуться в боги) быть богом и наблюдать за богами суть одно, ибо боги – это такая форма речи или метафора (переход из одной природы в другую), как (предположим) человеческая гениальность – не более чем метафора речи, ее экзистенциальность; более того, и убийство, и смерть – форма речи.
Да боги радостны, а человеки тщетны, но и те, и другие убивают, Но убивают и эльфы – только иначе, то есть честно. Теперь вы (сторонние и могущие перекинуться в боги) как наблюдатели можете наяву увидеть, как развивается в своих бесконечных повторениях (и началах, и окончаниях) поединок двух эльфов и (если отделить одно от другого) танец их клинков (или беседа клинков) постоянно меняются… Теперь Эктиарн с виду фехтовал очень просто. Клинок его перестал выписывать большие дуги. Но точность каждой остановки его лезвия превзошла даже прежнюю их ювелирность.
Более того, точность каждой остановки превзошла даже ювелирность огранки камней из стен Серой Крепости. Более того, теперь его клинок стал везде опережать Холодную Бронзу, стал как бы издеваться над потугами раритета настичь современность (сам «современностью не являясь» и пребывая вовне), над попытками догнать и достать, переступив через несуществующее «сейчас»; Почти одной кистью (то есть не направляя в нее волю), Эктиарн вращал клинок, защищаясь и нападая: полоснув здесь, лезвие Эктиарна тотчас протыкало осенние цвета камзола Серой Крепости уже совсем в другом месте.
Появились первые результаты. Осень повисла на теле Лиэслиа, как ей и надлежало, клочьями – как бы предваряя свою зиму. Внешне это выглядело так, будто удары Эктиарна стали преследовать целью не поражение противника, а его изменение – начиная с его одеяния! Внешне это выглядело так и выразилось в том, что удары Эктиарна стали менее сильными, но более скорыми, экономными, с плотным, прилипающим сцеплением лезвий при соприкосновении: людьми мы фехтуем или лезвиями, железо они или бронза – не все ли одно? Благодаря им мы выходим в мир.
Бой (как и затягивающие вглубь кружения Мальстрема), меж тем, продолжился и даже продолжался за свои пределы – но по сути был уже завершен! Эктиарн несколькими выпадами вынудил (то ли уговорил, то ли позволил) Лиэслиа попасть в скрытую (как женщина, что притворно отталкивает) западню, потом вдруг захватил левой кистью его неосторожно приблизившийся клинок из Холодной Бронзы и ничуть при этом не поранился, и вырвал его (а точнее, получил почтительнейше с рук на руки), и отшвырнул в самый дальний угол тренировочной залы, и Холодная Бронза, соприкасаясь с каменистыми планетоидами пола, лязгнула и зазвучала:
– Ну вот и все!
Лиэслиа (в одной из реальностей уже победивший на песке из этих самых планетоидов) улыбнулся:
– Я все понял, учитель (произнося это слово, он заранее дезавуировал сказанное), но и ты должен понять, – говорил он своей улыбкой, и еще он говорил, что есть должное, есть мы, есть невозможность не сгорать в огне Холодного Железа, но – невозможно сгореть…
… Ладонь Лиэслиа (освобожденная Эктиарном от клинка), не осталась пуста. Ее пальцы шевельнулись, якобы послушны якобы его воле, но – сами по себе, но – не каждый сам по себе, и произвели на свет заклинание: тонкие нити света ничуть не промедлили и пришли из НИОТКУДА и ОТОВСЮДУ к кончиками его пальцев, а вслед за ними пришел свет Стенающей Звезды, и из его холодной дороги сам собой соткался другой клинок, который ничуть не противоречил воспоминаниям о предыдущем (что отшвырнули в угол) клинке…
– Ты должен понять, учитель, почему в учебном бою мы не обозначаем убийства.
– Потому что перворожденные не могут биться ни на чьей стороне, – ответил ему Эктиарн, а потом позволил ученику продолжать:
– Да, то есть – могут биться со всеми, то есть – могут разбиться об это «все», – ответил Лиэслиа, а потом позволил Эктиарну продолжить:
– Победители в этом мире могут показаться лишенными смысла, настолько они взаимозаменяемы. Поэтому мы не обозначаем убийства.
Разумеется, Эктиарн так не сказал, и не благодаря «позволению» Лиэслиа, но – для них обоих, обладающих бессмертием и включенных в реальность эльфов бессмысленны и смерть, и посмертие, но – душа для них не бессмысленна; когда мы говорим о взаимной заменяемости людей, мы не говорим о взаимозаменяемости душ! Просто если не ты сделаешь то, чему произойти должно, то это свершение взвалит на себя кто-нибудь другой, причем совершенно неслучайный «другой» – если не ты (мог бы сказать Моисей) раздвигаешь море, делая из него берега, то его раздвинет другой (или ставший еще более другим) Моисей.
– Мы не обозначили убийства – во имя чести! Ведь ее нельзя обозначить, – так и только так обучали юных эльфов, которые не нуждаются ни в юности, ни в обучении, скорее, обучение и юность нуждались в них.
– Кто такая Ночная Всадница?
– Ведьма, если ты о человеке и женщине. Существо, не готовое стать богом или богиней, но – готовое в него или в нее перекинуться.
Так мог бы спросить Лиэслиа, но не спросил. Так мог бы ответить Эктиарн, но не ответил. Ведь на заданное необходимо отвечать недостаточно. Иначе камни (что во главах углов) перестанут быть душами без очертаний, и ответы на вопросы перестанут быть должными.
– Откуда ты узнал о Ночных Всадницах?
– Во время боя мне был голос. – сказал Лиэслиа. – Разумеется, он был некасаем. Но когда я брал Стенающую звезду, мне пришлось взять и его.
Эктиарн промолчал.
– Это произошло легко и спокойно, – сказал Лиэслиа.
Эльфы бережно и уважительно вложили в ножны клинки, прицепили их к поясам и собирались покинуть тренировочную залу, где обоим было легко и спокойно, и когда эльфы ступили за порог, легкость и спокойствие вослед им воскликнули:
– А у нас все по прежнему!
Речь шла о Дикой Охоте, которая всегда по пятам, которая всегда настигает и не должна настичь ни эльфа, ни человека, ни бога – да Бог с ними, с богами! Она их, считайте, настигла, и они влились в ее ряды – но без Дикой Охоты немыслимы эти спокойствие и легкость, без которых немыслимо само существование эльфийской реальности: все эти окрестности тренировочной залы и обнимающего ее замка, который обнимают его окрестности – которые далеко внизу, под ногами… Речь шла, как и всегда, о людях, у которых тоже все обстояло по прежнему.
– Да, – сказал Эктиарн, соглашаясь с вышесказанным; то есть, он мог бы согласиться и сказать так, но он добавил еще и это:
– Разумеется, было что-то еще.
Эльф имел в виду, что все сказанное о реальности эльфов, о ее спокойствии и легкости возможно постичь разумом и возможно выразить словом (как можно постичь сложение баллады), лишь выйдя из этой реальности и став меньше ее – то есть унизившись и вступив в бой – то есть став этой реальности лишним! Причем, либо избыточным лишним, либо тщиться от этой реальности отщипнуть малую пядь и тем самым уменьшить ее… Я бы сказал, это как добавить или убавить к книге Экклесиаста, если и для нее есть большее либо меньшее.
– Да, – сказал Лиэслиа.
– Тогда спой мне голосом, который был у тебя во время боя.
– Хорошо, учитель.
Поскольку было бы непоправимо вульгарным возвышать себя унижением, как если бы в ладони Лиэслиа все еще оставалась Стенающая Звезда, поскольку Холодное Железо в ладони (если бы оно там оставалось) Эктиарна тоже было готово вслушаться в голос ладони, сжимавшей Стенающую Звезду, эльф пропел всего три строки:
В чашу с вином,
Ласточки, не уроните,
Глины комок.
Показалось, пел эльфийский замок. То есть пела Серая Крепость, сотканная своеволием эльфов из неприступного камня. То есть сам эльф Лиэслиа не пел, но хотел петь, и пела его природа. В которой на равных имели свое место и невыносимо прекрасное, и непоправимо вульгарное – и никогда порознь!
– Ты полюбишь смертную девушку, – сказал ему (и его певчей природе) Эктиарн.
Точнее, так мог бы сказать Господин Лошадей, чтобы почувствовать потребность в смерти, чтобы переступить себя павшего – которого переступил ученик – чтобы переступить того, кто почти преодолел ученика… Точнее, он мог сказать вот так – чтобы сказать точнее:
– Ты полюбишь смертную Деву, девственную и замужнюю, святую убийцу, которую назовут Ведьмой.
– Разве такое возможно? – сказал в ответ эльф, для которого было возможно все или почти все.