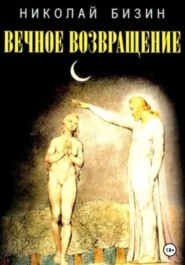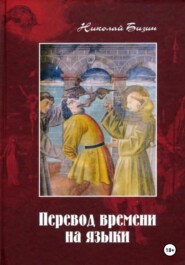По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Среда Воскресения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так что единственная наша надежда на достоинство – что сама цифра «двадцать один» есть фикция, и мы всё ещё счастливо остаёмся в живых (то есть находимся в Тёмных веках); но об этом я буду упоминать лишь самые интересные моменты этого (ни смотря ни на что) остросюжетного повествования (обещаю).
А вот то, что помянутый Мигель де Сервантес (титан Возрождения) уже и без меня стал всему нынешнему миру (постмодерна) должен – так ведь он и расплатился за всё (прошлое, настоящее и будущее): как раз сейчас он подбирает имя (не там у себя, а здесь у нас) своему Алонсо Доброму, и (таким образом) у великого автора уже есть его нынешний герой, и мне нечего ему предложить; поэтому – и я начинаю не с него, а с того начала, которое всегда посреди.
Тому самому Алонсо Доброму, которого (по его подобранным доном Мигелем, но им самим взятом имени) я сейчас предъявил.
Итак – когда-то не столь давно в одном скромном и лишь в галилеевый телескоп различимом пригороде Санкт-Ленинградской провинции и в самом конце двадцатого (но и без телескопа различимого) столетия жил да был некий среднего возраста идальго Илия Дон Кехана. Как и всякий внутренний дворянин (признаюсь, что даже по смыслу разделяю внешнюю и внутреннюю эмиграции и не считаю их ровней) он гордился своим плебейским происхождением и советским воспитанием, ведь таковые ему (не всегда) удавалось преодолевать.
Все свободное время, а свободен от времени был Дон Кехана все округлые (аки птолемеевый глобус) сутки, он посвящал упорному чтению рыцарских романов (как начал еще со времен их «самоиздата», так и не сумел вовремя остановиться), но при всем при этом (и при всем при «не этом») мире пребывая, идальго достаточно хорошо понимал: извлекаемые им из пыльных чуланов шедевры давно представляют лишь ностальгическую ценность.
Таком образом, все свободное время мой Илия был посильно свободен от времени.
Это только ведь так говорится – «не от мира сего»; конкретно в случае Илии мы имеем дело с действительным отъёмом у места и времени статуса «константы»: как если бы то и другое стали комочком детского пластилина! И даже если (поначалу) никакой пользы от тонкой (из внутреннего во внешнее) трасформации континуума извлечь не планируется, речь вовсе не об умозрительности.
А если (сразу) подразумевается некий эффект от манипуляций?
Тогда и отношение к проекту должно быть иным: подразумевать титаническую подготовку субъекта со-Творения (все мы дети Дня Восьмого) – мировоззрение моего героя (и даже идеология его) должны быть достойны того, чтобы вся жизнь его возмогла стать вектором терраформирования; но пока что (и слава Богу!) речь о самом начале пути (и конкретизации вектора).
Пока что я не вижу, что Илия Дон Кехана (сущее в сущем) буквально пребывает в ирреальном и может смотреть на Град Божий (непонятно, то ли на Первопрестольную, то ли на Санкт-Ленинград) со стороны.
Зато – вижу, что он явно оказался человеком метафизическим и отличным от той скудной реальности, в которой ему непреложно следовало бы «за миром следовать». Таким образом он действительно мог выносить на себе (и на душе, и на теле) имя дивного пророка Илии: оказывался способен не только смотреть на видимый мир.
Оказывался достоин и если не изменять, то (формально) определять его невидимое.
Как раз сейчас он видел это невидимое показательно разным: прошлым и будущим! Как раз сейчас он смотрел из окна своего дома на общеобразовательную школу. Как раз сейчас он действительно размышлял об образовывании живых людей из homo sum (и тогда будущее прошлое оборачивалось настоящим будущим); но Илия не собирался плутать в плоскости определений.
Он чувствовал себя – посреди (Тысячи и одной ночи): в нём самом рождалось Средневековье как центр и точка поворота; но отсюда же (изнутри вовне) ещё и дальнейший путь едва не погибшей в девяностые России мог повести и вверх, и вниз: для всего человечества именно сейчас и наступило то самое «посреди», когда homo sum мог придумать себе один или другой рычаг, опереться им о середину и перевернуть себя.
И всё оказывалось заключено в форме банального определения: учитель и ученик – главные люди будущего (а так же прошлого и настоящего, и всех остальных времён).
А что здание, на которое он смотрел из своего окна, было именно средней школой – стоит ли удивляться; можно было даже сказать так: он мог бы увидеть, насколько он слеп – если до сих пор не прозрел! Ведь он мог увидеть завтрашнее из сегодняшнего, но он был совершенно один и молчал и совершенно не собирался версифицировать строки видимой и невидимой реальности.
Но (кто ж его будет спрашивать?) помянутые реальности уже сами собой готовы были складывались у его губ. Вольно или невольно ему предстояло давать свое определение холодному миру «не своего» прошлого, который ему предстояло покинуть:
Освобождая пленную зарю
И поправляя скакуну подпругу,
Ты жаждешь счастия – и вот я говорю
С тобой о счастии… Но мы поем друг другу
Песнь одиночества!
Отечество души есть одиночество!
Как отрочество, что в глуши – песнь одиночества!
В лесной тиши готическое зодчество,
В котором есть цветные витражи
И дивные жестокие пророчества:
Невинность наказуема! Вина,
В которой истина, вполне недостижима…
Мы будем живы, будем просто живы
И выпьем одиночество до дна.
Когда-то многие (подобные этим) проникновенные строки сами собой слагались у множества губ: нечто подобное (и люди, подобные моему Илии дону Кехана, дивные люди) было очень распространено в другой ирреальности, что превышала нашу реальность – то есть в Советском Союзе, империи, перед которой трепетал мир, и которая ad marginem ушла дальше мира.
Следует ли полагать империю СССР в повседневном его воплощении как выхолощенное Царствие Божье? Этот спорный и безответный вопрос я оставлю на виду и пока на него не отвечу. Тем более для Илии Дона Кехана(ы) – здесь я теряюсь в правописании: как склоняется (или не склоняется перед реальностью) дивная фамилия.
Ведь для него Царство Божье более зримо (и почти достижимо) – располагается то ли над Санкт-Ленинградом, то ли над Первопрестольной; сказать, что Царство Божье – это бывший (прошлый и будущий, и вообще всех времен) СССР – такого он пока не говорил; а если и скажет – слишком многим этот взгляд полоснет бритвой по их личному взгляду.
Но это и мой взгляд, и я его не считаю самоубийством истины. Я называю его взглядом на истину – не только извне, но и со стороны Царства Божия, в котором нет смерти вообще. Поэтому даже видимая смерть в видимом мире – виртаульна: в невидимом её попросту нет. Как нет и тех жертв, и тех смертей, которые – виртуально были и прозвучали, которые у всех на слуху.
Зато есть Божье Царство. Именно оно наш удел.
А что наш удел оказался не только прошлым, но и видимо «чужим» нам уделом (ведь слово не стало делом, поскольку и этот удел – прошел: СССР рухнул), вовсе не означает, что теперь нам следует отдавать каждое свое око и каждый свой взгляд на потребу очередной виртуальному новоделу (из видимого мы уйдём за его пределы).
Ведь нас с вами прежде всего интересуют люди, которые и есть наша сущность. Которые – не проходят, а становятся нами.
Когда-то все эти «дивные люди не от мира сего» среднеобразовывались в империи СССР словно бы заводским производством. И хотя они от рождения не знали, что смерти нет (напротив, им с рождения внушали, что Бога нет), но как-то так выходило, что всем им было дано жить не хлебом единым, а небом единым.
Нёбо их было сухим, взыскующим живой воды и не желавшим воды мёртвой.
Как-то так выходило (само по себе из социума выдавливая), что все они неизбежно оказывались в статусе маргиналов (зафиксированной обществом константой внутренних перемен: сами собой предназначены выйти за пределы себя)! Это невообразимое чудо отбора ещё совсем недавно присутствовало в нашем быту – совсем рядом с нами, в минувшей империи СССР.
А всё потому что (в идеале) союз равноправных государств (если каждое государство счесть отдельной личностью) был в чём-то главном сродни древнегреческому полису.
«Полис – это обычно небольшой город, в котором вы знаете большую часть жителей с детства, а своих погодков лучше, чем мы сегодня знаем своих одноклассников. В то же время полис – это отдельное государство, в котором кипит политическая жизнь. И касается она всех граждан: например, в Афинах и других городах существовало непреложное правило – если в городе началась открытая борьба за власть, ты должен публично выбрать сторону. Проигравших в схватке могли простить, тех, кто решил отсидеться – никогда. При этом тесный контакт в социуме делал очень важным личную репутацию: греки поощряли талантливых людей, поэтому ни одному другому типу общества никогда не достичь такого процента великих и творческих людей на душу населения, как античным полисам.
Сюда стоит добавить и идею пайдейи – греки считали ключевой задачей общества воспитание и образование подростков. Суть идеи не в том, чтобы приучить человека к определенным вещам (удобным обществу), а в том, чтобы разумная привычка стала частью природы/характера человека. Этот переход из искусственного в естественное и есть культура. Они первыми открыли важность естественного следования нормам и добродетелям, а не из-под палки. Греки придумали себе миф о себе, коротко звучащий так «грек = культурный». И вера в него позволила достичь многого.» (особенности древнегреческого мышления)
Всё так. Составные части союза знали друг друга от начала времён. Во главу угла ставилось образование нового человека. И именно советское образование было лучшим.
Почему я так говорю? А потому что я советский человек, рождённый для подвига и готовый к нему. Разве что в момент, мною описываемый, всё это было уже не так. Поскольку наше с вами Царство Божье перестало быть невидимым и стало наглядным. Как и во времена блудливого мыслью Ренессанса населянты Царства Божия захотели жить в Царстве Людей.
Причём – захотели тем самым хочу, у которого нет и не может быть никаких оснований (кроме оснований невидимых). Поэтому – у них не могло не получиться разрушить всё то волшебство бытия, которым они обладали, и упасть на самое дно (то есть погубить и Россию, и всех ей доверившихся); на этом бы все и закончилось, и не было бы никакого Воскресения!
Но тут в это дно постучали снизу.
Оказалось, что хуже – возможно. Что (в материальном мире) закон сохранения (при ограниченности ресурсов) действует единственным образом: так или иначе каждый субъект решает свои задачи за счёт окружающих его объектов; но для этого субъект устанавливает контроль над невидимым миром объектов.
Раньше бы назвали простым словом: искусить.