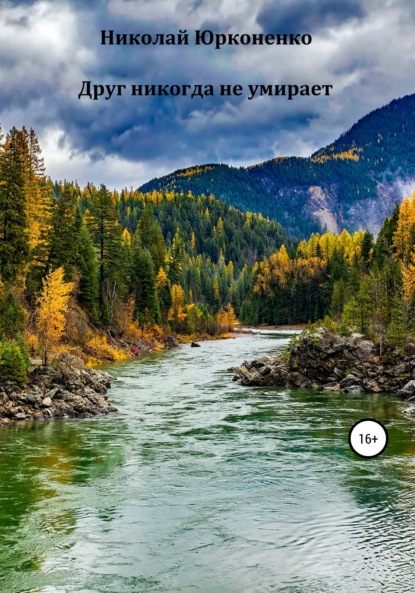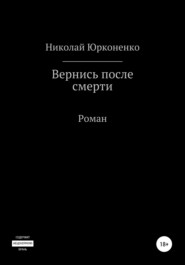По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Друг никогда не умирает
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Друг никогда не умирает
Николай Александрович Юрконенко
В биографической повести «Друг никогда не умирает» Николай Юрконенко повествует о начале своего литературного пути и делится воспоминаниями о писателе Олеге Димове, ушедшем из жизни в самом расцвете творческих сил. Также с великой благодарностью автор рассказывает про старшего товарища и наставника начинающих прозаиков Забайкалья Николая Дмитриевича Кузакова, чья жизнь была всецело посвящена служению великой русской литературе.
Кроме этого, автор делится яркими воспоминаниями об одном из многочисленных сплавов по рекам Забайкалья, во время которого произошло немало драматических событий и досадных случайностей, заставивших путешественников переносить лишения и бороться за свою жизнь в условиях дикой северной природы.
Николай Юрконенко
Друг никогда не умирает
Моему другу, писателю
Олегу Димову посвящаю
«…Каждый год я вынашиваю затаенную радость ожидания осени. Когда небо остынет, как свод в потухшей печи, по тайге разольется багрянец, с деревьев пойдет желтый лист, а с листом – я, вниз по Витиму или Олекме, Цыпе или Чаре. На Север, на Север! Туда, где по утрам седой иней на увядающих травах, где извечный сход рыбы из горных рек, где трубный рёв изюбриных свадеб. Если уйти за перевал Кодар, то можно увидеть отблески северного сияния, а во встречных ветрах из притундровой тайги почувствовать солоноватый запах океана.
Скрытая сущность каждого человека при его жизни облюбовывает то место, где она будет обитать после освобождения от плоти. Моя душа раз и навсегда избрала и боготворит забайкальский Север и поэтому, когда нос надувной оранжевой лодки направлен туда, сердце мое исполнено покоя…»
Олег Димов.
Николай Юрконенко во время описываемого в повести сплава.
***
Я мучительно долго искал и все никак не мог найти тот единственно верный литературный прием, тот способ, с помощью которого мог бы поведать читателем о моем друге Олеге Димове, ушедшем из жизни так рано. Как, в каком ключе можно повествовать о человеке, оставившем столь глубокий след в моей судьбе? Я перепробовал десятки вариантов, но всякий раз, начиная писать, убеждался: не то, всё не то, холодный, очерковый официоз, пустота… А про Димова надо рассказывать особенным, каким-то доверительно-теплым литературным языком, похожим на тот, коим владел сам Олег.
Мои творческие мучения могли продолжаться бесконечно долго, если бы я, перебирая свои литературные архивы, вдруг не наткнулся на рассказ Олега «Невиданные птицы Диби». Пробежав глазами первый абзац, строки из которого привожу в качестве эпиграфа, я тут же понял: ну, вот и все, нерв повествования найден! Вот о каком Димове надо поведать людям, о Димове-путешественнике! Мне, совершившему вместе с ним не один сплав по рекам Забайкалья, испытавшему Димова на излом в самых невероятных условиях, судьба дает в руки уникальный шанс рассказать, каким таёжником был Олег. Но вместе с этим необходимо поведать читателям и о том, как органично сочеталось в нем это самое «таёжничество» с талантом писателя, с гипертрофированной принципиальностью и порядочностью, с умудренностью философа, с энциклопедическими познаниями литературного редактора, с титанической работоспособностью, с умением организовать книгоиздательское дело и еще много с чем…
Не знаю кому как, а мне рядом с Олегом было интересно, он многое знал, многое умел, многое прощал, был незлобив и не злопамятен, терпим к человеческим слабостям, снисходителен к недостаткам. Некоторых этих качеств не доставало в моем характере, и я невольно, как-то даже интуитивно тянулся к Димову, как и он тянулся ко мне по той же очевидно причине – ведь и в нем самом много чего не хватало… Но было нечто более главное и важное, что единило наши сердца – это бесконечная любовь к Северу Забайкалья и почти языческая страсть к таёжным странствиям и приключениям.
Судьба сложилась так, что я вынужден был покинуть свою малую родину, тому было немало серьезных причин. Но Бог свидетель, что и по прошествии многих лет память не дает мне покоя здесь, на избалованном оранжерейно-декоративном Юге, а сердце сладостно мрёт и исходит неизбывной щемящей тоской о далеком Забайкалье, о его дивных вёснах в розовом пожаре зацветающего багула, о его багряно-золотых осенях в таежных руслах Ингоды', Хилка', Олёкмы, Ка'ренги, Вити'ма… Как наяву вижу пронзительно-синее небо со столбами белоснежных кучевок, до боли ощутимо погружаю ладони в хвойные чаши хрустальных горных родников, берущих начало в толщах подземных ледяных линз, пью, пью и никак не могу напиться девственно-чистой воды.
… Что-то загадочное и неподвластное моей воле долго не позволяло смириться с чудовищной несправедливостью, поверить в то, что моего верного и надежного друга Олега Димова больше нет на этом свете. Все казалось, что он продолжает жить в далеком Забайкалье, и может быть уже завтра, как всегда неожиданно и без предупреждения, вдруг позвонит в мою дверь и мы, наконец-то, горячо обнимемся… Эту веру поддерживали строки из стихотворения Константина Симонова: «Смерть друга».
«…Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет…»
Трудно не согласиться с великим поэтом: дорогой для тебя человек действительно не умирает, навсегда оставшись в памяти и будет продолжать жить до тех пор, пока жив ты сам… Но здравый разум холодно, беспощадно и настойчиво внушает, что это всего лишь иллюзорное ощущение, что душа Олега Димова уже никогда-никогда не возликует от того, что нос его оранжевой надувной лодки осенью направлен на Север. И это надо осознать и принять как данность, как простую и горькую правду…
… А вот я еще жив, и еще не оборваны нити единения с той землей, где я появился на свет. Навсегда остался во мне могучий первобытный зов, безудержно и неукротимо влекущий на Север Забайкалья, туда, где крепли мои крылья пилота, туда, где оставлена моя и Олега часть души. Сохранилась и вполне пригодна к сплаву та самая авиационно-спасательная лодка, на которой мы прошли от Красного Яра до Усть-Каренги и от Тунгокочена до Калакана. И время от времени возникает во мне шальная до сумасбродства мысль: а что, если рискнуть и, не взирая на возраст, на букет болячек и все прочее, пройти напоследок одним из тех маршрутов, которым много лет назад мы проследовали с Олегом…
Это может состояться, а может, и нет, жизнь покажет. А пока я расскажу об одном сплаве по северной реке Каренге, участниками которого были мы с Олегом и наш литературный наставник писатель Николай Дмитриевич Кузаков. И рассказывая, будто бы снова пройду тем памятным и во многом драматичным маршрутом… Но сначала о том, как в моей жизни появился он, Олег Афанасьевич Димов, известный сибирский писатель. Впрочем, в те давние годы ни он, ни я не были не то, что известными писателями, а являлись всего лишь начинающими литераторами, пытающимися реализовать свои первые и довольно слабые творческие опыты.
В ту славную пору я, недавно переучившись, осваивал «Илюху» – великолепный лайнер ИЛ-14, надежнейший «самолет-солдат», как его любовно нарекли летчики. За плечами имелся пятилетний стаж полетов на самолете АН-2, карьерный рост шел уверенно и быстро, так что в плане лётной работы все было в порядке. Но этого же я не мог сказать о литературной деятельности, к которой приступил после прочтения одной повести, (чтобы не дискредитировать ныне здравствующего автора, назовем ее условно «По земле – аки по небу»). Не имея ни малейшего понятия о специфике нашей работы, этот столичный автор нагородил такого! Приведу лишь несколько отрывков из данного уникального сочинения.
Итак, некий пилот самолета АН-2 (кажется Дремин, двинувший из Москвы в Заполярье за северным денежным коэффициентом), не имея возможности лететь (от старости лопнули проржавевшие тросы руля высоты!!!), едет на лыжном шасси по льду реки и, остановившись на отдых, пытается связаться по КВ-радиостанции с базовым аэродромом, чтобы доложить о своих злоключениях. Но это у него не получается, так как по теории автора прохождению радиоволн мешает прибрежный бугор. Вместо того, чтобы проехать мимо того злополучного препятствия, Дремин достает из багажника самолета кайлу и лопату!!! и за ночь сносит этот самый бугор вечной мерзлоты, вследствие чего радиосвязь с базой конечно же восстанавливается… Невольно на память приходит бородатый анекдот про деда Фому, чей телевизор плохо показывает. Неискушенный в радиотехнике деревенский старичок лезет на крышу своей избы и отгоняет метлой помехи от антенны…
А вот еще одна авторская эскапада: Дремин останавливается на ночлег. За бортом «Антона» холодища под полсотни, идет снег, который за ночь заваливает самолет аж по кабину. И вот утром по этому свежевыпавшему снежку, не проваливаясь!!!, к самолету приходит необозримо-огромная стая волков, особей под сто. И вожак, злобно скалит клыки через остекление кабины на пилота, угрожая его скушать… Ужас, мороз по коже! У читателя, разумеется, но только не у Дремина.
«Где-то на полке валяется мой старый, заржавленный, но надежный «ТТ», – бормочет ухарь-летун. Шаря рукой, он нащупывает заброшенный туда пистолет и, сдвинув форточку, открывает прицельный огонь… Расправившись с вожаком и обратив тем самым в паническое бегство волчью стаю, Дремин высовывает из кабины руку, отгребает снег от лопастей воздушного винта, (надо полагать, что рука у легендарного пилота имеет длину никак не меньше трех метров!) Затем запускает двигатель!!! и рулит себе дальше, с завидным аппетитом поедая на ходу свиную тушенку, а дожевав ее, выбрасывает пустую банку в форточку и еще долго слышит, как она звонко бренчит, уносясь прочь…
И наплевать господину писателю на то, что в кабине АН-2 нет никакой полки, что личное оружие, пистолет Макарова, выдаваемое пилотам только при выполнении полётного задания, не может валяться, где попало, а носится на поясе в кобуре. А для того, чтобы оно не было заржавленным имеется целый отдел специалистов, следящих за состоянием оружия. Что же касается волчьей стаи, то научно установлено, что она не может превышать двух десятков голов. (Есть, правда, сведения, что на севере Канады в начале прошлого века была зафиксирована стая под тридцать особей, но это, скорее всего, исключение из правил).
Теперь о снеге: даже ребенку известно, что в сильные морозы он попросту не идет, а уж если каким-то невероятнейшим образом все же пошел, удивив метеорологов всего мира, то вряд ли за ночь ляжет слоем в пять метров!!! Ибо именно такова высота самолета АН-2 в стояночном положении. А чтобы запустить двигатель даже на двадцатиградусном морозе, авиатехники греют его печками «МП» часа полтора как минимум. Ведь замерзшее в картере масло напоминает пластилин, и провернуть винтомоторную группу не хватит и десяти аккумуляторов, а одного-то и подавно.
Далее о ржавых и лопнувших тросах РВ: если бы такое произошло на самом деле, то ответственный за этот участок работы личный состав АТБ (авиационно-техническая база), пошел бы под суд вместе со своим начальником и получил, как минимум, по пять лет строгой изоляции за то, что не проводил техническое обслуживание самолета, которое осуществляется через каждые сто часов налёта, где проверке рулей и тросов уделяется особое внимание.
Ну, и в заключение о самом, на мой взгляд, комичном эпизоде: прикидывал я и так, и этак, а всё не мог взять в толк, как выброшенная Дреминым в форточку пустая банка могла греметь в пятиметровом снегу под аккомпанемент ревущего тысячесильного мотора «АШ-62»… А про «багажник» самолета, где находится кайла, лопата и прочий инвентарь дворника, я даже говорить не стану – это просто смешно…
Вот такая, с позволения сказать, книженция, уважаемый читатель, изданная, помнится, стотысячным тиражом! Труд по истине титанический! А иначе как же воспеть и восславить героику полярного жития-бытия. Из подобных сцен состоит вся повесть. Сказано ведь, что бумага не краснеет от стыда за то, что на ней накалякал автор. Но, собственно, не о той графомании речь, она послужила лишь причиной для того, чтобы я, возмущенный до глубины души данной бредятиной, взялся за перо.
С жаром принявшись за дело, одержимый благой мыслью правдиво рассказать о работе пилотов авиации спецприменения, в течение года накатал пятисотстраничную рукопись. Озаглавив свой опус «Восьмая Ча'ра», принес его в Читинскую писательскую организацию, где с гордостью (как же, – классик!!!), вручил для прочтения тогдашнему Ответственному секретарю Евгению Евстафьевичу Куренному. И вот тут-то мне, как выяснилось позже, несказанно повезло: Куренной передал мое сочинение на рецензирование писателю Кузакову, человеку, благодарную память о котором я несу через всю свою жизнь.
Надо ли говорить, с каким нетерпением и одновременно с содроганием я ждал своего приговора. И вот сочный, прекрасно модулирующий в телефонной трубке голос, дружелюбно произнес:
– Старик, ты художник… Настоящий художник! Но – только на тридцати шести страницах твоей рукописи. Всё остальное «чепушатина»! Тебе надо очень серьезно учиться литературному мастерству. Если согласен, то я готов помочь. Приходи ко мне домой, будем говорить.
Выйдя из телефонной будки, я медленно побрел по улице Амурской. Счет был явно не в мою пользу: тридцать шесть из пятиста! Какой-то сакральный смысл в этом невольно усматривался, ведь столько же игральных карт в колоде. И будет ли хотя бы одна из них козырной? Если нет, то стоит ли вообще писать? Рожденный ползать…
Через четверть часа я произнес эту весьма невеселую фразу высокому, под два метра ростом, плечистому, необычайно стройному человеку с широким тунгусоватым лицом, с зачесанными назад темными, с первой проседью, волосами над высоким лбом. Отчетливо помню, как поразили его глаза: пронзительно-черные, с каким-то даже синеватым оттенком, они смотрели на меня с почти детским любопытством, были живыми, лучились добром, и мое волнение как-то незаметно улетучилось. Выслушав меня, он тихонько посмеялся и произнес с укоризной:
– Нет, старик, это изречение не для тебя. Потому, что ты – летаешь. Теперь надо научиться ходить по земле. Уверенно ходить, а не ползать! В твоем случае это значит научиться писать. Но только ответь: сможешь ли учиться этому долгое время?
– Конечно, смогу! – самоуверенно сказал я, имея за плечами среднюю школу, учебу в Львовском и Читинском аэроклубах, службу в Воздушно-десантных войсках и Омское летное училище. В сумме все это тянуло как минимум лет на двадцать пять. Что ж, пусть будет еще года два-три. Но писатель положил тяжелую ладонь на мое плечо:
– Ты, наверное, не совсем правильно понял мою метафору: учиться придется всю жизнь. И работать до черного пота.
Так в мою жизнь вошел Николай Дмитриевич Кузаков, мой СТАРИК, мой Учитель. Он вошел со своими словами: чепушатина, до черного пота, невдогляд, беспроклый, вытропить, соболятничать, медвежало, гордачливый, изнапраслина, ознобень, разнемога, непутя'вка и многими-многими другими, которыми изобиловало его образное, богатое, изумительно-прекрасное северное наречие. Но главным его словом применительно ко мне было слово «старик», хотя мне в ту пору не было еще и тридцати. Не знаю, почему так случилось. И не могу припомнить, чтобы он называл меня по имени. Старик да Старик. И для меня он, в то время совсем еще молодой мужчина, едва перешагнувший полувековой жизненный рубеж, тоже стал Стариком. Навек моим! Хотя, кроме как по имени-отчеству, я его никогда не называл. А потом я прочел его повесть «Именной карабин» и понятие Старик по отношению к моему литературному отцу и учителю укрепилось во мне навсегда. Потому, что в этой небольшой, с незамысловатым сюжетом повести я вдруг увидел в кузаковском герое-охотнике того, хемингуэевского героя-рыбака из повести «Старик и море». Точно таким же могучим накалом любви человека к жизни, к отрицанию ветхости и бессилия озарено произведение дедушки Хэма, как и повесть Кузакова.
Мой Старик… Я знал его не один десяток лет. Каким же он был? Он был всяким. Лишь три человеческих проявления не были характерны для него: злость, подлость и жестокость. Будучи профессиональным и весьма результативным охотником, он принципиально не применял в разговоре расхожее слово «убить». Никогда не говорил о том или ином добытом звере: «Я его убил», в речи Старика это звучало: «Я его спромышлял».
Всех остальных черт в характере Кузакова было бесконечно много. Но, прежде всего, он был добрым. Нет, не добреньким, но по-настоящему добрым. Добро всегда высокодуховно, не мстительно, не злопамятно. За те поступки, которые люди порой выкидывали по отношению к Кузакову, кто-то другой мог бы, наверное, уничтожить, он же тихонько улыбался, приговаривая:
– Ничего, ничего-о-о… Всякое бывает. Надо уметь прощать, быть выше грязного, подлого, стараться этого не замечать.
Невольно на память приходит один случай: в гостеприимном доме Кузаковых очередная гулянка-посиделка. Как всегда, на столе все то, что нашлось в небогатом холодильнике. (У Кузаковых никогда и ничего не экономили впрок, все, что имелось, хлебосольной Евгенией Герасимовной «металось» на стол). И вот один, порядком подвыпивший литератор, забыв, видно, где находится, бубнит столь же «трезвому» соседу:
– Ты знаешь, кто такой Кузаков? Да это же полудикий тунгус, едва научившийся водить пером по бумаге. Весь его интеллектуальный багаж, это бородатый анекдот про чукчу и русского геолога… Бездарь, возомнившая себя писателем.
Я, сидя возле Кузакова, понимаю, что тот все слышит, но он мудро молчит, потом говорит мне на ухо:
– Пусть долдонит, не обращай внимания.
– Но вы же сами рассказывали, как не один раз выручали его из вытрезвителя, как выкупали неплатежеспособного из ресторанов, брали дебошира на поруки в милиции. Как можно терпеть в своем доме такое: пьет вашу водку, закусывает вашим хлебом и колбасой, и несет про хозяина гадость? Вышвырните его отсюда! Или разрешите это сделать мне: только скомандуйте, и мерзавец вылетит из квартиры с дверной филенкой на ушах!
Николай Александрович Юрконенко
В биографической повести «Друг никогда не умирает» Николай Юрконенко повествует о начале своего литературного пути и делится воспоминаниями о писателе Олеге Димове, ушедшем из жизни в самом расцвете творческих сил. Также с великой благодарностью автор рассказывает про старшего товарища и наставника начинающих прозаиков Забайкалья Николая Дмитриевича Кузакова, чья жизнь была всецело посвящена служению великой русской литературе.
Кроме этого, автор делится яркими воспоминаниями об одном из многочисленных сплавов по рекам Забайкалья, во время которого произошло немало драматических событий и досадных случайностей, заставивших путешественников переносить лишения и бороться за свою жизнь в условиях дикой северной природы.
Николай Юрконенко
Друг никогда не умирает
Моему другу, писателю
Олегу Димову посвящаю
«…Каждый год я вынашиваю затаенную радость ожидания осени. Когда небо остынет, как свод в потухшей печи, по тайге разольется багрянец, с деревьев пойдет желтый лист, а с листом – я, вниз по Витиму или Олекме, Цыпе или Чаре. На Север, на Север! Туда, где по утрам седой иней на увядающих травах, где извечный сход рыбы из горных рек, где трубный рёв изюбриных свадеб. Если уйти за перевал Кодар, то можно увидеть отблески северного сияния, а во встречных ветрах из притундровой тайги почувствовать солоноватый запах океана.
Скрытая сущность каждого человека при его жизни облюбовывает то место, где она будет обитать после освобождения от плоти. Моя душа раз и навсегда избрала и боготворит забайкальский Север и поэтому, когда нос надувной оранжевой лодки направлен туда, сердце мое исполнено покоя…»
Олег Димов.
Николай Юрконенко во время описываемого в повести сплава.
***
Я мучительно долго искал и все никак не мог найти тот единственно верный литературный прием, тот способ, с помощью которого мог бы поведать читателем о моем друге Олеге Димове, ушедшем из жизни так рано. Как, в каком ключе можно повествовать о человеке, оставившем столь глубокий след в моей судьбе? Я перепробовал десятки вариантов, но всякий раз, начиная писать, убеждался: не то, всё не то, холодный, очерковый официоз, пустота… А про Димова надо рассказывать особенным, каким-то доверительно-теплым литературным языком, похожим на тот, коим владел сам Олег.
Мои творческие мучения могли продолжаться бесконечно долго, если бы я, перебирая свои литературные архивы, вдруг не наткнулся на рассказ Олега «Невиданные птицы Диби». Пробежав глазами первый абзац, строки из которого привожу в качестве эпиграфа, я тут же понял: ну, вот и все, нерв повествования найден! Вот о каком Димове надо поведать людям, о Димове-путешественнике! Мне, совершившему вместе с ним не один сплав по рекам Забайкалья, испытавшему Димова на излом в самых невероятных условиях, судьба дает в руки уникальный шанс рассказать, каким таёжником был Олег. Но вместе с этим необходимо поведать читателям и о том, как органично сочеталось в нем это самое «таёжничество» с талантом писателя, с гипертрофированной принципиальностью и порядочностью, с умудренностью философа, с энциклопедическими познаниями литературного редактора, с титанической работоспособностью, с умением организовать книгоиздательское дело и еще много с чем…
Не знаю кому как, а мне рядом с Олегом было интересно, он многое знал, многое умел, многое прощал, был незлобив и не злопамятен, терпим к человеческим слабостям, снисходителен к недостаткам. Некоторых этих качеств не доставало в моем характере, и я невольно, как-то даже интуитивно тянулся к Димову, как и он тянулся ко мне по той же очевидно причине – ведь и в нем самом много чего не хватало… Но было нечто более главное и важное, что единило наши сердца – это бесконечная любовь к Северу Забайкалья и почти языческая страсть к таёжным странствиям и приключениям.
Судьба сложилась так, что я вынужден был покинуть свою малую родину, тому было немало серьезных причин. Но Бог свидетель, что и по прошествии многих лет память не дает мне покоя здесь, на избалованном оранжерейно-декоративном Юге, а сердце сладостно мрёт и исходит неизбывной щемящей тоской о далеком Забайкалье, о его дивных вёснах в розовом пожаре зацветающего багула, о его багряно-золотых осенях в таежных руслах Ингоды', Хилка', Олёкмы, Ка'ренги, Вити'ма… Как наяву вижу пронзительно-синее небо со столбами белоснежных кучевок, до боли ощутимо погружаю ладони в хвойные чаши хрустальных горных родников, берущих начало в толщах подземных ледяных линз, пью, пью и никак не могу напиться девственно-чистой воды.
… Что-то загадочное и неподвластное моей воле долго не позволяло смириться с чудовищной несправедливостью, поверить в то, что моего верного и надежного друга Олега Димова больше нет на этом свете. Все казалось, что он продолжает жить в далеком Забайкалье, и может быть уже завтра, как всегда неожиданно и без предупреждения, вдруг позвонит в мою дверь и мы, наконец-то, горячо обнимемся… Эту веру поддерживали строки из стихотворения Константина Симонова: «Смерть друга».
«…Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет…»
Трудно не согласиться с великим поэтом: дорогой для тебя человек действительно не умирает, навсегда оставшись в памяти и будет продолжать жить до тех пор, пока жив ты сам… Но здравый разум холодно, беспощадно и настойчиво внушает, что это всего лишь иллюзорное ощущение, что душа Олега Димова уже никогда-никогда не возликует от того, что нос его оранжевой надувной лодки осенью направлен на Север. И это надо осознать и принять как данность, как простую и горькую правду…
… А вот я еще жив, и еще не оборваны нити единения с той землей, где я появился на свет. Навсегда остался во мне могучий первобытный зов, безудержно и неукротимо влекущий на Север Забайкалья, туда, где крепли мои крылья пилота, туда, где оставлена моя и Олега часть души. Сохранилась и вполне пригодна к сплаву та самая авиационно-спасательная лодка, на которой мы прошли от Красного Яра до Усть-Каренги и от Тунгокочена до Калакана. И время от времени возникает во мне шальная до сумасбродства мысль: а что, если рискнуть и, не взирая на возраст, на букет болячек и все прочее, пройти напоследок одним из тех маршрутов, которым много лет назад мы проследовали с Олегом…
Это может состояться, а может, и нет, жизнь покажет. А пока я расскажу об одном сплаве по северной реке Каренге, участниками которого были мы с Олегом и наш литературный наставник писатель Николай Дмитриевич Кузаков. И рассказывая, будто бы снова пройду тем памятным и во многом драматичным маршрутом… Но сначала о том, как в моей жизни появился он, Олег Афанасьевич Димов, известный сибирский писатель. Впрочем, в те давние годы ни он, ни я не были не то, что известными писателями, а являлись всего лишь начинающими литераторами, пытающимися реализовать свои первые и довольно слабые творческие опыты.
В ту славную пору я, недавно переучившись, осваивал «Илюху» – великолепный лайнер ИЛ-14, надежнейший «самолет-солдат», как его любовно нарекли летчики. За плечами имелся пятилетний стаж полетов на самолете АН-2, карьерный рост шел уверенно и быстро, так что в плане лётной работы все было в порядке. Но этого же я не мог сказать о литературной деятельности, к которой приступил после прочтения одной повести, (чтобы не дискредитировать ныне здравствующего автора, назовем ее условно «По земле – аки по небу»). Не имея ни малейшего понятия о специфике нашей работы, этот столичный автор нагородил такого! Приведу лишь несколько отрывков из данного уникального сочинения.
Итак, некий пилот самолета АН-2 (кажется Дремин, двинувший из Москвы в Заполярье за северным денежным коэффициентом), не имея возможности лететь (от старости лопнули проржавевшие тросы руля высоты!!!), едет на лыжном шасси по льду реки и, остановившись на отдых, пытается связаться по КВ-радиостанции с базовым аэродромом, чтобы доложить о своих злоключениях. Но это у него не получается, так как по теории автора прохождению радиоволн мешает прибрежный бугор. Вместо того, чтобы проехать мимо того злополучного препятствия, Дремин достает из багажника самолета кайлу и лопату!!! и за ночь сносит этот самый бугор вечной мерзлоты, вследствие чего радиосвязь с базой конечно же восстанавливается… Невольно на память приходит бородатый анекдот про деда Фому, чей телевизор плохо показывает. Неискушенный в радиотехнике деревенский старичок лезет на крышу своей избы и отгоняет метлой помехи от антенны…
А вот еще одна авторская эскапада: Дремин останавливается на ночлег. За бортом «Антона» холодища под полсотни, идет снег, который за ночь заваливает самолет аж по кабину. И вот утром по этому свежевыпавшему снежку, не проваливаясь!!!, к самолету приходит необозримо-огромная стая волков, особей под сто. И вожак, злобно скалит клыки через остекление кабины на пилота, угрожая его скушать… Ужас, мороз по коже! У читателя, разумеется, но только не у Дремина.
«Где-то на полке валяется мой старый, заржавленный, но надежный «ТТ», – бормочет ухарь-летун. Шаря рукой, он нащупывает заброшенный туда пистолет и, сдвинув форточку, открывает прицельный огонь… Расправившись с вожаком и обратив тем самым в паническое бегство волчью стаю, Дремин высовывает из кабины руку, отгребает снег от лопастей воздушного винта, (надо полагать, что рука у легендарного пилота имеет длину никак не меньше трех метров!) Затем запускает двигатель!!! и рулит себе дальше, с завидным аппетитом поедая на ходу свиную тушенку, а дожевав ее, выбрасывает пустую банку в форточку и еще долго слышит, как она звонко бренчит, уносясь прочь…
И наплевать господину писателю на то, что в кабине АН-2 нет никакой полки, что личное оружие, пистолет Макарова, выдаваемое пилотам только при выполнении полётного задания, не может валяться, где попало, а носится на поясе в кобуре. А для того, чтобы оно не было заржавленным имеется целый отдел специалистов, следящих за состоянием оружия. Что же касается волчьей стаи, то научно установлено, что она не может превышать двух десятков голов. (Есть, правда, сведения, что на севере Канады в начале прошлого века была зафиксирована стая под тридцать особей, но это, скорее всего, исключение из правил).
Теперь о снеге: даже ребенку известно, что в сильные морозы он попросту не идет, а уж если каким-то невероятнейшим образом все же пошел, удивив метеорологов всего мира, то вряд ли за ночь ляжет слоем в пять метров!!! Ибо именно такова высота самолета АН-2 в стояночном положении. А чтобы запустить двигатель даже на двадцатиградусном морозе, авиатехники греют его печками «МП» часа полтора как минимум. Ведь замерзшее в картере масло напоминает пластилин, и провернуть винтомоторную группу не хватит и десяти аккумуляторов, а одного-то и подавно.
Далее о ржавых и лопнувших тросах РВ: если бы такое произошло на самом деле, то ответственный за этот участок работы личный состав АТБ (авиационно-техническая база), пошел бы под суд вместе со своим начальником и получил, как минимум, по пять лет строгой изоляции за то, что не проводил техническое обслуживание самолета, которое осуществляется через каждые сто часов налёта, где проверке рулей и тросов уделяется особое внимание.
Ну, и в заключение о самом, на мой взгляд, комичном эпизоде: прикидывал я и так, и этак, а всё не мог взять в толк, как выброшенная Дреминым в форточку пустая банка могла греметь в пятиметровом снегу под аккомпанемент ревущего тысячесильного мотора «АШ-62»… А про «багажник» самолета, где находится кайла, лопата и прочий инвентарь дворника, я даже говорить не стану – это просто смешно…
Вот такая, с позволения сказать, книженция, уважаемый читатель, изданная, помнится, стотысячным тиражом! Труд по истине титанический! А иначе как же воспеть и восславить героику полярного жития-бытия. Из подобных сцен состоит вся повесть. Сказано ведь, что бумага не краснеет от стыда за то, что на ней накалякал автор. Но, собственно, не о той графомании речь, она послужила лишь причиной для того, чтобы я, возмущенный до глубины души данной бредятиной, взялся за перо.
С жаром принявшись за дело, одержимый благой мыслью правдиво рассказать о работе пилотов авиации спецприменения, в течение года накатал пятисотстраничную рукопись. Озаглавив свой опус «Восьмая Ча'ра», принес его в Читинскую писательскую организацию, где с гордостью (как же, – классик!!!), вручил для прочтения тогдашнему Ответственному секретарю Евгению Евстафьевичу Куренному. И вот тут-то мне, как выяснилось позже, несказанно повезло: Куренной передал мое сочинение на рецензирование писателю Кузакову, человеку, благодарную память о котором я несу через всю свою жизнь.
Надо ли говорить, с каким нетерпением и одновременно с содроганием я ждал своего приговора. И вот сочный, прекрасно модулирующий в телефонной трубке голос, дружелюбно произнес:
– Старик, ты художник… Настоящий художник! Но – только на тридцати шести страницах твоей рукописи. Всё остальное «чепушатина»! Тебе надо очень серьезно учиться литературному мастерству. Если согласен, то я готов помочь. Приходи ко мне домой, будем говорить.
Выйдя из телефонной будки, я медленно побрел по улице Амурской. Счет был явно не в мою пользу: тридцать шесть из пятиста! Какой-то сакральный смысл в этом невольно усматривался, ведь столько же игральных карт в колоде. И будет ли хотя бы одна из них козырной? Если нет, то стоит ли вообще писать? Рожденный ползать…
Через четверть часа я произнес эту весьма невеселую фразу высокому, под два метра ростом, плечистому, необычайно стройному человеку с широким тунгусоватым лицом, с зачесанными назад темными, с первой проседью, волосами над высоким лбом. Отчетливо помню, как поразили его глаза: пронзительно-черные, с каким-то даже синеватым оттенком, они смотрели на меня с почти детским любопытством, были живыми, лучились добром, и мое волнение как-то незаметно улетучилось. Выслушав меня, он тихонько посмеялся и произнес с укоризной:
– Нет, старик, это изречение не для тебя. Потому, что ты – летаешь. Теперь надо научиться ходить по земле. Уверенно ходить, а не ползать! В твоем случае это значит научиться писать. Но только ответь: сможешь ли учиться этому долгое время?
– Конечно, смогу! – самоуверенно сказал я, имея за плечами среднюю школу, учебу в Львовском и Читинском аэроклубах, службу в Воздушно-десантных войсках и Омское летное училище. В сумме все это тянуло как минимум лет на двадцать пять. Что ж, пусть будет еще года два-три. Но писатель положил тяжелую ладонь на мое плечо:
– Ты, наверное, не совсем правильно понял мою метафору: учиться придется всю жизнь. И работать до черного пота.
Так в мою жизнь вошел Николай Дмитриевич Кузаков, мой СТАРИК, мой Учитель. Он вошел со своими словами: чепушатина, до черного пота, невдогляд, беспроклый, вытропить, соболятничать, медвежало, гордачливый, изнапраслина, ознобень, разнемога, непутя'вка и многими-многими другими, которыми изобиловало его образное, богатое, изумительно-прекрасное северное наречие. Но главным его словом применительно ко мне было слово «старик», хотя мне в ту пору не было еще и тридцати. Не знаю, почему так случилось. И не могу припомнить, чтобы он называл меня по имени. Старик да Старик. И для меня он, в то время совсем еще молодой мужчина, едва перешагнувший полувековой жизненный рубеж, тоже стал Стариком. Навек моим! Хотя, кроме как по имени-отчеству, я его никогда не называл. А потом я прочел его повесть «Именной карабин» и понятие Старик по отношению к моему литературному отцу и учителю укрепилось во мне навсегда. Потому, что в этой небольшой, с незамысловатым сюжетом повести я вдруг увидел в кузаковском герое-охотнике того, хемингуэевского героя-рыбака из повести «Старик и море». Точно таким же могучим накалом любви человека к жизни, к отрицанию ветхости и бессилия озарено произведение дедушки Хэма, как и повесть Кузакова.
Мой Старик… Я знал его не один десяток лет. Каким же он был? Он был всяким. Лишь три человеческих проявления не были характерны для него: злость, подлость и жестокость. Будучи профессиональным и весьма результативным охотником, он принципиально не применял в разговоре расхожее слово «убить». Никогда не говорил о том или ином добытом звере: «Я его убил», в речи Старика это звучало: «Я его спромышлял».
Всех остальных черт в характере Кузакова было бесконечно много. Но, прежде всего, он был добрым. Нет, не добреньким, но по-настоящему добрым. Добро всегда высокодуховно, не мстительно, не злопамятно. За те поступки, которые люди порой выкидывали по отношению к Кузакову, кто-то другой мог бы, наверное, уничтожить, он же тихонько улыбался, приговаривая:
– Ничего, ничего-о-о… Всякое бывает. Надо уметь прощать, быть выше грязного, подлого, стараться этого не замечать.
Невольно на память приходит один случай: в гостеприимном доме Кузаковых очередная гулянка-посиделка. Как всегда, на столе все то, что нашлось в небогатом холодильнике. (У Кузаковых никогда и ничего не экономили впрок, все, что имелось, хлебосольной Евгенией Герасимовной «металось» на стол). И вот один, порядком подвыпивший литератор, забыв, видно, где находится, бубнит столь же «трезвому» соседу:
– Ты знаешь, кто такой Кузаков? Да это же полудикий тунгус, едва научившийся водить пером по бумаге. Весь его интеллектуальный багаж, это бородатый анекдот про чукчу и русского геолога… Бездарь, возомнившая себя писателем.
Я, сидя возле Кузакова, понимаю, что тот все слышит, но он мудро молчит, потом говорит мне на ухо:
– Пусть долдонит, не обращай внимания.
– Но вы же сами рассказывали, как не один раз выручали его из вытрезвителя, как выкупали неплатежеспособного из ресторанов, брали дебошира на поруки в милиции. Как можно терпеть в своем доме такое: пьет вашу водку, закусывает вашим хлебом и колбасой, и несет про хозяина гадость? Вышвырните его отсюда! Или разрешите это сделать мне: только скомандуйте, и мерзавец вылетит из квартиры с дверной филенкой на ушах!