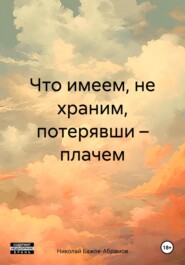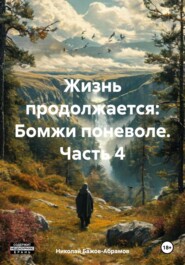По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
День только начался
Год написания книги
2024
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Максимович Бажов-Абрамов
Повесть описывает через что, проходит главный герой, находясь в плену своего внутреннего мира, стараясь разобраться в произошедшем и своем местонахождении. Повесть через поток сознания передает внутренние раздумья персонажа, где сливаются воедино воспоминания, фантазии и действительность. Герой пытается распутать клубок событий, приведших его к странной ситуации, в которой он оказался.
Николай Бажов-Абрамов
День только начался
Николай Бажов – Абрамов
День только начинался.
Повесть
День только начинался. И он лежал на примятой сырой траве, которую тогда, ползая торопливо из последних уходящих сил, в спешке рвал до полной темноты, перед тем как укладываться спать, в собачьей позе, у этой говорливой с порогами, не широкой лесной речушки. Место, который застал его еще вчера, перед закатом солнца, получилось у него, конечно, в спешке. Да и к тому, и сумрак с холодком уже спешил, поглощая на своем пути, света дневного. А он ведь по началу, даже и не собирался переждать в эту ночь, у этой говорливой, не широкой речушки, с порогами, застигнутый его у этой речки и между железнодорожным полотном. До трассы, куда он так стремился, был почти уже под боком, почти рядом, по его ориентиру этой местности. Да и когда, судорожной с дрожью пробудился он в это утро, у этой говорливой речки, вначале даже долго не мог понять, почему он тут лежит, и как он тут оказался? Еще вчера, когда пробирался через этот местность: где там ползком, а где и по мере возможных сил, шел ковыляющим шагом, вдоль этого железнодорожного полотна и этой быстрой речки, с порогами, он, в одном тогда сосредоточен был в своих желаниях, до полной темноты выйти, до этой его намеченной цели, заветной. И ведь, почти же он, казалось, по ориентиру этой местности, доковылял до этой спасительной трассы. Если бы в этой спешке, вновь в радостях, не споткнулся он тогда, зацепившись носком своего ботинка, об этот трухлявый пень дерева, возможно, он бы, и правда (допустить же можно), вышел до этой опушки леса, еще затемно. Случай он, конечно, этот помнил, а если бы не вспомнил, в силу своего положения, то в ссадинах правое плечо и разорванный рукав костюма, при последнем падении, об этот трухлявый пень, ему напомнил (до сих пор там у него нестерпимо ныло), но, а что потом? Он вздрогнул, как бы от озноба – это, когда высветился неожиданно перед его настороженным взором, вновь этот, тот самый, посеребренным виском, который, с хрипотцой в голосе, – простужен он был, наверное, – просит, или все же настойчиво уговаривает, глотнуть ему тоже, из его винной большой бутылки. И всплыл теперь, как бы ни откуда, перед его настороженным измученным взором, вновь тот тамбур…
Затем, сглатывая с горечью мокроты во рту, он умолкает. Перед его застывшим взором, висит неподвижный свод светло – голубого неба, с примесью, с разорванными, с белыми просвечиваемыми островными облаками. Они в его воображениях, какое – то не такое, необычное, какой он привык видеть в своей повседневной жизни у себя в деревне. Они были сейчас, перед его часто мерцающим взором, отражением речки, видимо, светло – лазурными, и потому ослепляющими. Вот он снова выплыл в его голове. Нет, не его лицо, и не его голова, светлыми, как бы прилизанными волосами. Он это отчетливо сейчас увидел в своем воображении, потому и от этой проявленной неожиданности в его памяти, с толчком испуганно вздрогнул, когда так ярко выплыл, из веретен его памяти, его рука. И в его руке… Что это? Он вновь вздрагивает, содроганием даже, потому запоздало вновь даже хочет прикрыться рукою от этого ужаса, защитить с чем – то, как – то себя, от этого, вроде, резкого укола в грудь. После, он уже не помнил. Как он тут оказался? Нет, не здесь. Там еще, недалеко от железнодорожного полотна, где он пришел в себя. И лежал он, под (бога, что ли начать верить ему), у этой, густо – плотной, полтора метровой высоты ивы. Теперь, если проследить внимательно хот его видений… да, он сейчас, тут… все еще лежит на примятой сырой траве, не пода леку от этой говорливой, с порогами быстрой речушки. Но ведь он? Как это ему понимать? Он, если все же логически рассуждать, должен был находиться еще в тамбуре, у того пассажирского поезда, на котором он ехал из Сургута, до своей конечной станции Нурлат. Значит? Да и память, наконец, теперь, ему подсказывает, припоминается; он тогда вышел в шумный тамбур, вместе с этим человеком. А и, правда, теперь он это отчетливо вспомнил. Ему тогда, и правда, было тоскливо, сидеть в купе. Наверное, все же за однообразие, пейзаж за окном, мелькающий, перестук колёс, на стыках рельс, под вагоном, и эти с холодком отдающие стены в купе. А предложение покурить в тамбуре, он, все же, какое – то действие совершает, не сидит, тупо уставившись в окно, невольно прислушиваясь перестуку колес, на стыках рельс, под его вагоном. Потому он и, радостно соглашается с предложением этого с проседью седого, в висках, Петра Гавриловича, соседа и попутчика по купе, у которого, как он помнил, был еще хрипловатый простуженный голос. Кашлял он еще часто, подставляя к своему рту, интеллигентно кулак. Да, так и есть. Но, а потом… он его, выходит… после резких уколов в грудь, когда он, с его настойчивого уговора, с неохотой, чтобы его только не обидеть отказом, приложился доверчиво с его бутылки, этого вина. Получается, он в это время, и всадил в его грудь остриём этой отверткой; затем, может сразу, а может и после, когда поисследовав все его карманы, открыл дверь тамбура, вытолкнул его на ходу из поезда… Но, не понятно ему, все же. Почему, ну почему, выпадая с движущего поезда, он еще жив? Нет, надо ему скорее прийти в себя, да и, за одной, выкурить сигарету, успокоить себя, а затем, по возможности, попробовать все же выковырнуть еще, из памяти головы, если это еще возможно, что же на самом деле с ним происходит сейчас, или уже произошло? Так, где он этот портсигар? И где сигареты? Вспомнил. В кармане у него всегда, внутреннем, в пиджаке. Давняя привычка еще из армии. И пока он подстраивался, как ему еще вытащить из этого кармана пиджака, этот его портсигар, когда в это время, между промежутками деревьями, пробивающийся утрешний свет, слепит его воспаленные до болей глаза. Да ему еще кажется, рядом, недалеко от него, искрящаяся от лучей солнца вода, с поверхности говорливой речки, играет, будто, с ним сейчас какую – то странную игру. Перемигивается с говорливо журчащих порогов. И потому ему сейчас, да и сам он это понимает, не нужно по напрасно дёргать себя: причиняя снова боль, движением своим. Потому он, с осторожностью, затравленно вертит по сторонам голову, озираясь, но, не меняя еще позу своего тела. Сейчас он, от того падения, от той торочащийся из земли пня, руку даже левую не может пошевелить. Там была такая адская, ноющая, не прекращающая боль, как в тот раз в тамбуре, когда тот ему, силой несколько раз, всадил чем – то острием в грудь. Даже сейчас, это вспоминание, выдавливал с глаз у него слезы. Но тогда, зачем этот портсигар стал нужным ему сейчас? «Да и зачем мне сигареты?» Хочется ему это вслух сказать себе, но что у него еще с языком? Он у него, будто, как бы распух что ли? И боль еще там, какой – то, утолщено не удобный, не привычный. А между тем, солнышко уже выплыло полностью, из провальной лесной полосы. Высветилось ярко, озаряясь светом, ослепляя глаза. После уже, какое – то время спустя, не так и стало прохладно. И дрожь в теле вроде прекратился. Да и между промежутками деревьями, затем, холодный сумрак, пятясь, углубился вскоре, вглубь этого леса. И блики солнца, отраженные от поверхности речки, теперь, кажется, только ему уже перемигиваются. И, кажется, получилось у него. Выдернул он, наконец, можно сказать, с мясом, из левого внутреннего кармана пиджака, тот зачем – то понадобившийся теперь ему портсигар. Но, что это? И почему он продырявленный? И как бы придя в себя, будто, как бы перед его взором, вновь открылись те пугающие его, что интересно, ни откуда, это видение. О, ужас? Что он видит? Все тот же тамбур оплеванный курящими дверь, и этот, исчезающий будто в тумане, ему знакомый по купе человек. Хотя и совсем он уже исчез, но эти его глаза: трусливо бегающие со злобой, как бы временно задержались в исчезающем его облике. Поэтому он, в испуге вновь вздрагивает, причиняя невольно себе боль, и в тоже время, роняя на грудь этот портсигар. И там у него, у левой стороны груди, вновь молнией сильно кольнуло. Больно так. Что даже у него выдавило слезу. Недоумевая все еще, что же это с ним на самом деле, он, наконец, отстегнул с трудом пуговиц на пиджаке, затем и на рубашке. И что он видит? Прижав с усилием подбородок груди. Видно у него там рана, запекшей уже кровью. Прямо почти у ниже соска. Видно, этот портсигар его, получается, и сыграл с ним добрую услугу. Защитил проникновение полностью в его грудь, этого самого предмета: ножа или штыря заточки. Судя по дыре портсигара, можно было понять по форме – это был, как остро оточенная отвертка. Видимо, он и защитил его от неминуемой смерти, остановленный диафрагмой груди. А дальше ему уже понятно. Сознание высветил ему память. Помнит он. А это уже в Сургуте. Поезд был у него проходящий. И он еще помнит. К нему привязался какой-то мужик интеллигентного вида, в черной куртке на платформе, кашляющий часто, когда он, выйдя из вокзала сумкой, при объявлении диктором прибытия его поезда, стал подходить к своему вагону. И помнит. Он шел впереди него сумкой, перекинутый на левое плечо, и он еще, задержавшись у вагона, перед тем как подняться, обернувшись через правое плечо, прокашлянув, любопытствовал: «Вижу у вас, по билету, тоже этот вагон? Поедем, значит, вместе?» Вагон у них, и правда, был общий по билетам. Да, вот только. Куда он ехал, не сказал. Или не в настроении был в это время. Он это сейчас только вспомнил. И еще, к ним в купе больше никто не вселился. Поэтому ему было скучно ехать, а спать, не хотелось. И когда он, этот сосед по купе, ближе к обеду, следующего уже дня, предложил ему вновь покурить с ним в тамбуре, и там продолжить прерванную в купе беседу. Да еще он, прихватил собою и эту большую недопитую еще бутылку со стола. А ему было скучно, поэтому выбора у него не было, чем – то другим делом заняться; с предложением его почему – то сразу согласился. К тому времени, они уже знали, но еще шапочно, как им обоим звать. Он ему представился Сергеем. Затем, замешкавшись, и чуть сделав паузу, добавил смущенно, трогая пальцами кончика носа: «Собственно я, Сергей Иванович. Так в школе ко мне обращались мои ученики и учителя. Пришлось, вот, как видите, уйти мне из школы… – И не сдержанно уже. С грустью, со вздохом. – Вы тоже тут, вижу, на подработке были? Как я понимаю. Поэтому сами видите. Какая у нас сегодня провинция, с этой фальшивой демократией. Семью кормить, одевать надо? Ясно. Вы сами это, без моей подсказки видите, что делается сейчас в стране не так. Вот я и, завербовался временно, в нефтяники, чтобы сегодня семья моя выжила. Домой еду. Вахтовая у меня сейчас работа». И уставился на него с доверчивой улыбкой, чтобы и о нем узнать чуточку его судьбу. Все же они вместе ехали. Но он, на его это предложение, только растерянно хмыкнул и помрачнел, не ожидавший этого вопроса. Выставил ему только свои моренные желтые зубы, а затем, потерянно отмахнувшись рукою, хрипотцой кашляя, вы хрипнул. «Ай! чего уж там. Ничего путного там я не вижу, в моей жизни. Приболел я, домой тоже еду. Петром Гавриловичем меня звать». А у него еще, на лицевой стороне левой руки, выколот был, маленький якорь. «Якорь там у вас… с морем, выходит, вы связаны? «Да, было, когда – то. Это я, когда служил в мор пехе… пускай. Не мешает он мне». Вот и все. А в остальное время: сидели, изредка перебрасывались словами, поглядывая на окно между глотками, из этой все еще бутылки. И ничего такого подозрительного в нём, он не почувствовал тогда, от этого, своего соседа, по купе. Он, конечно, не был хилым человеком. Поэтому и опасаться от него, не зачем было ему. Но то, что он везет столько денег в кармане, об этом он как – то не думал, что его могут по дороге домой, кто – то ограбит. Если бы ему кто – то даже в шутку сказал, что его ограбит в пути его сосед по купе, он тому человеку просто рассмеялся, по привычке, отмахнувшись рукою. «Да, ладно. Зачем ему головная боль». Поэтому он, и спокоен был насчет своих денег. Но, а когда этот Петр Гаврилович предложил в очередной раз сходить в этот тамбур, и там, в разговорах, допить, наконец, остаток этого вина, из этой все еще недопитой бутылки, да и за одной, там еще тихонечко покурить (теперь в тамбуре не разрешали курить), он легко с ним, с его предложением покурить в тамбуре, согласился. Так как, он уже знал, да и сообщил, этому Петру Гавриловичу, скоро ему сходить, а покурить, перед тем как попрощаться с ним, подумал, почему бы нет? Раз еще и приглашают. Но, вот, то, что там, в тамбуре, после произойдет, он этого никак предвидеть не мог. Он же был нормальным мужиком. Хотя и знал, при неблагоприятных случаях, человек может превратится и негодяя. В жизни ведь, всякое бывает. Когда он покачнулся, тыркнулся на него, подумал только, или даже не успел подумать. Просто в тот момент вагон сильно качнуло, на стыке рельс, и он не удержался от стенки тамбура, где он до этого упирался спиною за него и курил. Его, конечно, сильно качнуло, и он, невольно по инерции, отброшенный, тыркнулся на него, на этого Петра Гавриловича. А затем, следом, тотчас почувствовал резких, сильных уколов в грудь. Этим, видимо, штырем, или отверткой. После… там провал у него с памятью. И как он упал, и когда столкнул его этот Петр Гаврилович, с тамбура, ничего этого он не помнил. Видимо, то, что он еще жив сейчас, это ему, Господу богу, выходит, помолиться надо, если выберется из этого леса. Да и выброшен он удачно. На густую встречную зеленную иву. И этим самым, он и, выходит, остался жив. После он, когда на четвереньках, с кровяными потеками во всем теле, выбирался из этой разросшийся недалеко от берега речки куста ивы, и он еще не знает, сколько он там еще пролежал в беспамятстве. Этого он не знал, и потому не помнил. Но когда выполз окончательно из этого куста, понял, что он жив, поэтому он, сгоряча все еще, хотел привстать, но его на этой попытке, сломил резкая боль в груди. Он даже, вроде, закричал, оглашая лес эхом, пронзенной этой болью. После, он снова надолго забылся.
***
Пришел он уже в себя, только под вечер. Холодные сумерки, обнимающие его, да и прохлада эта, собачья, отдающая сыростью, с уходом дневного света, привели его в состояние осмысленности. Он тогда себя обнаружил не по далеко от воды речки, и обильных сочных разно трав, окружавших его с трех сторон, а сзади него, там уже в пяти, шести шагах, было железнодорожное полотно. Пока еще, какая – та видимость была, и, осознав уже, в каком он состоянии сейчас, стал под собою рвать эту траву, и делать себе лежак. Так как, стал уже понимать, придется ему здесь, проще сказать, дрыхнуть тут до утра. В этом неудобстве, да еще в прохладе и сырости от речки, всю ночь, так как, продолжить путь, он уже не мог физически. Хотя и, осознавал, судя по рельефу местности, трасса, куда он стремился, была почти рядом. Главное еще, жалко было ему себя. Если бы еще чуть подальше от этого места, с километра хоть, ближе к той предполагаемой опушке, там было бы уже не лес, а трасса автомобильная. Но теперь, когда он окончательно понял, что с ним произошло, ему надо, все же попытаться выбраться из этого места. Но это уже, после он только осуществит, когда он доползет, или доковыляет до этого берега речки. И там еще на свету, у открытой местности, у небольшой просветной поляны, попробует окончательно рассмотреть эту свою рану. Да и за одной, перевяжет, если это возможно, рану. Но это потом, потом, когда он совсем осмыслит происходящее с ним. То, что он еще жив, выходит, у него грудь только чуть продырявлен, не задеты основные органы там. И этим он обязан, выходит, своему портсигару и ребру диафрагмы, что жив еще до сих пор. Хотя, боль его и уложил вновь на подстилку травы, ему все же, не смотря на потревоженную боль, попробовать, если это возможно, продвинуться ближе к этой речке, пока совсем плохо ему не стало. И там, все же, попробовать обмыть, хотя бы от грязи, эту его рану в груди, и суметь еще добраться и до нательной майки. Затем попробовать, сделать из него перевязочный бинт, а после, все же попытаться встать, если это возможно. Местность, ему вроде, знакомо. С мамой он еще тогда, в глубоком своем детстве, рвал тут, вручную, из этой речушки, строительного мха, для нового строящего отцом бревенчатого дома. Было ему тогда, дай бог ему вспомнить? Сколько же было ему тогда лет?.. Не то семь. Да… в тот год, папа его, наконец, затеял строить новый дом. Конечно, детская память не долговечна. Вон, сколько уже времени минуло с тех пор. Теперь он уже, и сам взрослый дядька. Сына имеет, дочку, жену. Матери только, вот, жалко. Давно уже она в могиле. Все у него померли, когда он еще учился на последнем курсе в институте, в Челябинске. И в школу свою деревенскую, когда он приступил работать, после окончания института, с того времени, вон, сколько уже годов минуло. Успел к тому времени жениться, родила жена сына, затем и девочку. И теперь бы ему, до сих пор работать в своей школе. Да, вот, беда эта российская. Не умеем мы спокойно жить и развиваться, поэтому, выходит, незаметно, не ожидаемо, для всех населяющих граждан страны, нагрянула эта беда. Затем изменилась неузнаваемо и страна. Или её изменили, при молчаливо послушном народе, эти, всегда неспокойные, жадные выскочки, не любящие свою страну люди – либералы. Стабильная жизнь в деревне, тут же стала исчезать. Да и власть другая стала, с приходом к власти в Кремле, этого оппозиционера Ельцина, которого, если это и правда, привели, – говорили,– к власти, те же КГБ шники. Ну и голоса еще не достающие. Тогда еще (Верховный совет), этой либеральной партии Жириновского. Хотел он тогда, говорили, в правительство попасть, но не получилось; Ельцин его так и не взял в свою команду: не поверил его лояльности к нему. А колхоз, просуществовавший столько лет: его создали коллективизацией, когда – то, советами. Еще при Сталине. Теперь, неважно уже, кто и как его создавали. Но, а теперь… вроде другой альтернативы, у них нет. Разговоры только. Поэтому, пусть бы продолжал свое существование до тех пор – он никому теперь уже не мешал, и люди из оседлой сельской местности, благодаря колхозу, да, мало там получали, но работу все же имели. Но все равно, вскоре, под чьё – то д у – д у, бесславно исчез колхоз с облика деревни. А там уж, трудно было понять и объяснять люду деревенскому толково: кто развалил колхоз, и куда делась эта многомиллионная колхозная техника: машины, сеялки, комбайны, трактора. Да и с ферм: лошади, коровы, свиньи, молодняк. Все разворовали в одном часе. Кому – то, за бесценок, видимо, продали, близким своим людям. А остальное, растаскали, вплоть, до последних железок, из бывшего стана, кому не лень. И никто теперь не узнает, где от их продажи деньги? После, конечно же, в деревне работы не стало. Да и одновременно, и школа, следом за колхозом стала хиреть. Зарплаты упали. И даже какие – то месяцы, стали зарплату выдавать, – кто же до этого маразма додумался? – водками, порошками стиральными. А семью надо было кормить. Конечно, славу богу, деревенских жителей, огороды испокон веков выручали. Да и скота, ради мяса, заколоть еще можно было. Не всех еще их, эти новые буржуа рыночники из Нурлата, выкупили для продажи у них, на их рынке. Но, Сергею Ивановичу, не потому что захотелось разбогатеть на нефтяном промысле. Да и откровенно сказать, уже смысла не было больше в школе работать; да и знакомые, которые до него уже проторили этот Сургут, наобещали ему чуть не золотую гору там, в Сургуте, нефтяной столице. Хотя и тут в Нурлате, можно было найти эту работу на нефтянке. Да, брать брали, не отказывали, но не на денежную только работу. Понятно. Чужак, он везде чужак. Да и сам он там уже, второй год трудился. И зарплата у него теперь, не сравнить, конечно, со школой тут. Он, если уж откровенно, за эти два года, пока вкалывал на этой нефтянке, вахтовым способом, напротив своего старого родительского дома, через дорогу, на этом пустыре, дальше уже были поля бывшего колхоза, а за полем, чуть в километре, шумел лес, выстроил пятикомнатный финский дом. С наружи, он еще был обложен белым силикатным кирпичом. Это уже был его успех. И жена его, Надежда, была теперь спокойна, которая, сохранившийся еще при деревне мужа детсаде, работала там пока воспитательницей. Не успели его еще изжить с лица земли деревни, районное, все знающее, что нужно для его электората в первую очередь, сановное чиновничье начальство, выполняющие свои работы всегда, с оглядкой на эту сытую Москву: что те скажут, или прикажут, своим ором. Так ведь делается у нас всегда. Ничего тут не придумано, и не выдумано, все правда. Что при коммунистах, что и сейчас. Там она, стыдно даже ей признаться, ниже корзиночного минимума, установленного, говорили, Москвой только получала. Даже на жизнь не хватало, иные месяцы, если уж совсем откровенно. Этого в газетах, конечно, не пишут, не разрешают писать. Да еще. У нас цензура снова, как при коммунистах. Вот и верь, после, из телевизора начальство, что народ его изобильно живет, в этой в их новой власти – рае. Если бы не его зарплата, а он работал теперь вахтовым способом, жить еще можно было как – то, не обращая на эту киселевскую монотонную пропаганду из телевизора. Одеться и обуться, и мебель какой, в районе докупить для нового дома, – он теперь основной заработок для семьи, зарабатывал на этой нефтянке, а на еду, если не хватало этих денег, огород, как всегда, издревле выручал труженику деревни, да и живности какое – то было еще во дворе. Там, если сахарку купить, прежний магазин еще был рядом. А теперь, вот, доползти бы ему до этой заветной трассы, где он мог после, поднять руку проезжающему мимо транспорту, доехать с ним до своего дома, или до районной больницы. Но возможно ли ему, в теперешнем состоянии? Главное ему все же сейчас, доползти бы, или доковылять до этого берега речки, упираясь на что-нибудь. Палкой, что ли. И ведь совсем уже она рядом. Как сказал бы в другой раз: рукою подать. Слышно даже ему, журчание отсюда у порогов. Главное, не зациклится ему пока на этот боль, исходящей сейчас, то ли от этой раны в груди, то ли там у него, все же, внутри. В общем, кажется ему, отовсюду боль это у него сейчас. Поэтому, валяться будет на этой сырой земле, не будет у него, конечно, этого спасения. Остается ему только, закусив до крошева зубы, заставить себя, с усилием встать, или ползти изо всех сил до этого берега речки. Совсем он уже рядом. Ну, сколько там шагов ему сделать?.. Пять, десять, пятнадцать? А ведь ему и уходящее солнце как бы сейчас помогала. Почти пригревала его сверху, между кронами деревьями, своим теплом. Подстраивала его собраться духом, встать. И пусть ноги у него еще не устойчивые, дрожат от слабости, но он должен все же встать, попробовать, попытаться, хотя бы, дойти до этого берега. И он, господи! Сделал это, все тки же. Ура! Распахнул пиджак, затем и рубашку, добрался до раны. Там все припухло у него, но кровь затвердел, закрывал рану. Это хорошо. Замачивать водою он эту рану, конечно, не станет. Перевязать бы её. Но, вот, сейчас он что – нибудь придумает. Скатает нательную майку в полоску, а чтобы она не поползла вниз по телу, а конец, с платочком, что у него в кармане отыскался, попробует стянуть за лямки нательной майки. Но руки и лицо все же отмыть ему надо. Судя по руке, как они грязные и ссадинами, можно судить, что и лицо у него такой же. Их ему надо отмыть, да и за одной он и освежится. И боль, который импульсом отдавался сейчас у него в области груди, он вынужден стерпеть. Раз, если, еще дышит. А куда он денется? Иначе ему не дойти до этой трассы, которая, по его предположению, в километре не больше. Ох! Как бы еще ему заново пристегнуть рубашку и пиджак, распахнутые с трудом, до этого с тела, когда он осматривал свои раны. Еще бы ему палку какую – то цельную подобрать, чтоб на нем было опереться рукою. Возможно ли это сейчас? Путь, по которому он хочет продолжить – это видимый для него впереди участок, между берегом речки и железнодорожного полотна. Ну и, конечно, нельзя исключать, дальше будут встречаться на его пути, и кустарники, и деревья, преграждающие его путь. Слава бога еще, видна под ногами, эта еле приметная тропа. Выходит, люди недавно еще, ходили вдоль этой речки. Иначе, откуда эта заросшая теперь травой тропочка. Значит, надо ему продвигаться, поэтому еле приметному следу. Раз есть тропа, значит, она все равно, когда – то, куда – то его выведет. Главное сейчас ему, забыть на время о своем ране. Сейчас он, может и правильно сделал. Он все же доковылял с трудом до этой речки, и не стал с речки эту воду пить, после, как руки отмыл. Сдержался, уполз от берега, чтобы себя не мучить соблазном. Но двигаться ему надо. Подняться бы ему вновь. Но как это ему сделать? На левую руку ему нельзя упираться. У него там отдавался сильнейшая боль, а с правой рукою, ну, доползет он, вон, впереди себя, до этой кривой березки. Что дальше? Да и что он с одной рукою сделает, для спасения себя? Привстать бы ему сейчас. Попытка первая, у него не удался. Он рычит уже, заглушая боль. Пот заливает его лицо. Он знает, это не здоровый пот у него капает с лица, но, а что ему делать? Он снова, с выкриком, делает попытку встать. Правая его рука, от такого напряжения, даже вздулась венами, налилась с пульсирующей кровью. Да и сам он весь напрягся, до багровой красноты, что даже у него на лбу, в середине, вена синяя выделилась. А ведь получился все же у него. Он встал. Хотя и закачало его, но он выровнял себя вовремя, опершись спиною к стволу дерева. А дерево, которому он уперся сейчас спиною, была осина. Не толстая. Так, в обхват был, двух рук пальцев. Высокая она такая, с гладкой синей кожурой, упирался вершиной к небу. И отталкиваясь теперь от неё, он делает попытку шагнуть по этой, высматривающей по траве тропе. И по выражению его лица, видно, он рад, что еще держится; и нет пока, и это слава бога, никаких преград впереди на его пути. Там, ближе уже к речке, у берега, конечно, ивы, прислоненные стоят к воде. Хотя и извивалась эта тропа, по контурам изгибом речки, страшно ему все же становилось, когда он, не по своей воле, невольно забирался какое – то время по тропе, вглубь куда – то в лес. А ему, все же, не надо отрываться далеко от этого берега речки. Речка, все же это его был ориентиром. Понимал, потеряет он эту связь, потеряет и свое спасение. Он даже на какое – то время, в раздумье надолго застыл, выбирая себе дальнейшее направление. И выбор этот придется ему сделать, пока он в состоянии соображать и стоять на ногах. Надо ему, и правда, сойти, пока еще не поздно, с этой тропы, и в дальнейшем стараться держаться ему все же вблизи у этого берега речки. Но тут ему, видимо, выбора не было. Придется ковылять ему, как по бурелому: самому прокладывать направление путь, к своему спасению. Тогда ему, от этого говорливого берега, ни в коем случае нельзя отрываться подальше ни на шаг. Он верил почему – то. Берег этот его, рано ли поздно, выведет его из этого лесного плена. Но, видно, по его состоянию, как он шатко держится сейчас на ногах своих; поэтому не пора ли ему уже прислонится какому – то дереву на его пути, или же немножко все же полежать ему на земле расслабленно, среди этих павших серых листьев. И правда, где он вытянулся, недалеко от берега, земля была обильно серо устлана этими павшими листьями, и среди этой листвы, то и там тянулись к свету и эти ландыши, и папоротники, с тонкими рас пильными крылышками, или как там его еще называют в этой местности люди, кочедыжники лесные. У ландышей, уже завялые колокольчики, бледно серо выстроились на засохших серых стебельках, а папоротники, обильно разросшихся, где он среди них лежал, казалось, будто, раскрасили лес своей зеленью. Он был, конечно, в сознании и ясном уме. И даже в таком состоянии, в каком сейчас пребывал, лезли его мозг, без ведомо него, какие – то отрывки из его прежней прошлой жизни. Не панорамно, а кусками. Будто, как память из прошлого, отрывал сейчас у него, эти куски, и зачем – то напоминал ему, ту его прошлую жизнь. Вот он всплыл. Еще молоденький он. Глядит отвлеченно (ему так кажется, чтобы люди на него не обращали), с брезгливостью, с высоты своего роста на свою маму, которая сиротливо и потерянно сидит у окна в трамвае. Это, когда она приехала в разгар его учебного года, на похороны своей младшей сестры, Степаниды, у которой, когда её кесари ли, врачи – акушеры (торопились, или не внимательные были) забыли в её утробе хирургические ножницы, когда зашивали её живот. Тогда он, только – только поступил институт, и мама его тогда, помнится ему, попросила сразу по приезду, чтобы он был для нее путеводителем в тот день в городе, пока она сестру не похоронит. До сих пор. До сих пор. Это удивительно. Сколько, вон, минуло уже с тех пор, а все ему не дает та память из прошлого покоя, тот нехороший его поступок. Казалось бы, ну что такого он натворить мог с нею? Просто ехали они тогда с нею на трамвае, за этой справкой, в эту кантору, для убиенной Степаниды. Там еще с ним был и муж Степаниды, Анатолий, или как он его звал тогда: дядей Толей. Конечно, он не без причины делал вид, что сидящая рядом с ним женщина, в неброском, красно клеточном платье, не его мама. Чего же он её стеснялся? За её деревенское, что ль, платье что ли? Конечно, она в этом платье, и, правда, выглядела, совсем не как городской житель. Он потому, еще дома, перед этой поездкой, просил её еще, чтобы она это свое платье, пока она здесь, сняла, а за место нее, подобрала временно для себя, и для выхода города, из платьев сестры Степаниды. Но она его и слушать не хотела, только просто сказала, чтобы он только отстал от неё: «Если мое платье стыдно покажется другим, то пусть тогда они прикроят от стыда свои глаза. А мне нечего стыдится. Что имею, то и ношу». Но он же молодой тогда еще был, да еще студент, стыдно ему рядом с таким платьем мамы. А понять и понимать её, он, видимо, не умный еще тогда был. Теперь, вот, как не накатит вспоминание это, так краской и покрывался. Но время он уже упустил, и возврата уже нет, чтобы вытравить этот его стыд, из своей памяти прошлого.
***
В очередной раз, он вновь споткнулся, за такой же трухлявый пень, выступающий горбом из земли на его пути. И отлетев от этого падения, лежал он сейчас, слава бога, на правом боку, где недалеко от него журчала у порогов речка. Нет, он на этот раз, не так сильно покалечился. Но все же, падая, набил, выходит, шишку очередную на своем теле. Затем над ним прошелся, поглаживая и укутывая его с холодком, ветер, неожиданно прибежавший с другой стороны речки. Да и там, куда он так всматривался, видел отсюда, этот только лысый зеленый холм, возвышающийся; но не увидел перед собою эту опушку леса, куда он так рвался, выбиваясь из последних сил. А идти ему все же надо, прерванным падением об этого пня, если он действительно хочет вырваться из этого лесного плена. Но возможно ли это ему в теперешнем виде? Теперь он уже, с каждым своим шагом, с тревогой ощущал, что сил у него уже почти в исходе, а сколько ему еще впереди шагов этих сделать, до цели этой намеченный, он, и правда, понятие не имел. Он видел перед собою только, тот запущенный его мозгом ориентир: дерево, потом другое дерево, и не очень уже осмысливал, что делал. И, видимо, и правда, плохо ему. Он, когда у какого – то дерева задерживался, отдышаться, прийти в себя, с тоской, и с болью в глазах, как – то смотрел на вершину этого приобнятого им очередного на его пути дерева. Что говорило в его взгляде, не трудно было понять. Да, ему хотелось в эту минуту стать птицей, чтобы увидеть ему самому, своими глазами, с высоты своего полета, эту опушку леса, куда он так стремился выйти. Но отсюда он, конечно же, не увидит конца этого леса, да и для осмотра, мешает ему этот невысокий лысый холм впереди за речкой, а продолжать дальше путь, у него уже сил нет. Да и папоротник уже у него весь изжёван и выплюнут. Пора бы ему передохнуть, да и к берегу подойти сейчас ему не мешало. Освежить себя, да и рот, за одной очистить, не мешало ему, от этого изжеванного папоротника, с этой речною водою. Но для этого ему, все же надо, прежде встать, или хотя бы присесть, узреть перед собою, с травой проросшийся берег этой речки, где на него, сразу бы замигали, отраженные солнцем зайчики. Их там, в речке, так было много, что, когда он присел, у него от этих бликов – зайчиков, как бы даже глаза прослезились. Что невольно, как бы защищаясь от них, не произвольно машинально прикрылся изгибом руки глаза. Затем, сделал попытку подняться, сдерживая и покусывая зубами за нижнюю губу до крови. И у него это получилось. Он даже как бы улыбнулся сквозь этот боль, довольным своим усилием. И прежде, как продолжить снова этот изнурительный путь, он еще отправил в рот кусочек этого откусанного папоротника. Это его действие, хоть отвлекал сейчас от той боли в груди, или где – то там еще, которые не давали ему нормально чувствовать себя. Но продолжать путь, прерванным падением, об этого трухлявого пня, ему все равно надо, если он, действительно, хочет доковылять, хоть бы даже таким способом, до этой его заветной трассы. Но возможно ли ему это? Теперь он уже, с каждым своим шагом ощущал, что сил у него уже почти нет, а сколько ему еще впереди шагов этих сделать, он уже даже понятие не имел. Просто он шел сейчас, вернее, брёл, и не очень осмысливал, что он делает. На каком – то этапе, поэтому, у него выбились снова силы. Больше он уже не мог и шага сделать, да и сознание уже не реагировала к его мыслям и действиям; он ахнул – это он вновь споткнулся, не так ногу, выходит, выставил вперед. После этого падения, он уже совсем перестал понимать: что это с ним происходит. И лежал он сейчас, на мягкой постилке серых прелых листьев, на правом боку, да и речка говорливая недалеко, приветливо журчала у порогов. Нет, он после этого падения, на этот раз, легко отделался. Без всяких там очередных новых ссадин и шишек. Подстилка, с палыми листьями, оказался, видимо, мягким. И он дышал – самое главное. И видно было, как грудь его, с толчками бьется сейчас с хрипотцой. Затем над ним, вновь прошелся, задевая его шумно с холодком, ветер, прибежавший снова с другого берега этой речки, куда он так рвался сейчас, выбиваясь из последних сил. Теперь он лежал, прислушиваясь к себе. И даже ему, кажется, он на какое – то время потерял ориентир. Вдруг он зашевелился. Пришел, выходит, в себя. Подобрал зачем – то колени к животу, или это у него получилось рефлекс, но, само собою, а затем, откуда – то у него только силы взялись, с выкриком вывернулся на спину. И видно было, как он к этому действию рад. Посветлело у него даже испачканное, падением лицо. И даже, вроде, улыбнулся, жмурясь, к этому крадущему следом за ним, уходящему солнцу, который, когда он продвигался от одного дерева к другому, следовал за ним, будто по пятам. Вскоре, наверное, легче чуть ему стало. Сделал попытку встать. Главное ему, это унять, наконец, эту боль в груди, и в других местах своего тела. Ну, хотя бы временно забыть их. Возможно, если он освежится сейчас с речной холодной водою, может ему и станет тогда чуть лучше и легче? А то, это уже невыносимо ему терпеть эту боль, пульсирующую в ране, да и в других местах тела. Да и возвращаться назад, чтобы подойти к берегу речки, это ему так не хочется. Но, а что ему делать? Ему не обойти эти орешники, кустами разросшиеся вдоль этого берега. Сквозь них, нельзя, а обойти их ему, все же надо, чтобы подойти к берегу и там найти себе, пусть и временно, отдых. Иначе он вновь свалится сейчас, где он стоит, как вкопанный, обняв рукою, за очередной ствол березы.
***
Позже, когда он освежился с речной водою и очистил рот от этого изжеванного папоротника, уже зная, да и, чувствуя, что устоять на ногах он больше уже не может, прилег тут же, не сходя с места, недалеко от этого говорливого с порогами берега. И, видимо, правильно он сделал, что вернулся назад, обойдя этих сгрудившихся кучно орешников. Он тут, в тени от ветерка, вроде даже, обрел в отдыхе силы. Пусть и сыровато ему тут, где он лежит, среди этих зелени трав, но какое было облегчение, после этой речной воды. Боль в груди, как бы у него, обманно даже замер. Да и эти ссадины, запекшие кровью в теле: на плечах, на коленях, на боку, да и на лице особенно, от этого освежения речной водою, как дитё малые, отслоившись от влажной одежды, успокоено замерли, приласканные его мокрой холодной ладонью. Теперь, прежде чем встать, ему надо пристегнуть обратно все пуговицы на рубашке, если это возможно, и этот нелепо сейчас сидящий на его плечах, заляпанный паутиной и грязью, его серый пиджак. И успокоить, если это еще возможно, мозг. У него там одна только дума. Как выйти ему, до полной темноты, до этой опушки леса, пока он еще в состоянии стоять на ногах. И когда уже продолжил свой изнурительный путь к своему спасению, он теперь, наученный приобретенным опытом, старался строже глядеть у себя под ноги. И, не потому что ему, надоело падать, на эти полу сгнившие листья, а после с трудом, кряхтя, как старик, вставать, цепляясь за какую – нибудь опору для его правой руки. А левая у него рука, не поймешь, то ли он, и правда, сломан, то ли, сильно так поврежден, но он у него сейчас, просто висела как сломанная ветка. Поэтому, теперь – то, что это с ним? Да и вдруг еще? Ни с того, и ни с чего. Почему он, перестал вдруг, надеяться на это чудо, что когда – нибудь да выйдет на эту трассу. Хотя он и отошел прилично уже от берега, ему все же было тревожно, что он от речки удаляется вновь. Он же помнил, тот случай, как он тогда с мамой, набрав этого речного мха в мешки, они, пройдя вдоль этой речки, вышли к этой опушке леса, а затем и на эту грунтовую шоссейную дорогу. Тогда им повезло. Не пришлось им до дома пешком топать, с такой ношей за спиной. Подобрал их по дороге, какой – то не русский мужик, чуваш из соседней деревни, следующий на своем гужевом транспорте из Нурлата. Но теперь, конечно, колхозов нет в деревнях, и лошадь с телегой, редко теперь встретишь по дороге. А сил у него уже почти на исходе. Хотя он, может, и стоя у дерева чуть передохнуть, обняв рукою за её ствол, но, вот, боли в теле, как ему это унять? Они его сейчас, рвали просто на куски. И даже трясло его от этих болей. Видимо, и правда, он этот Петр Гаврилович, с купе, в тамбуре своей отверткой, все же, что – то у него там повредил. А то, откуда же у него там, такая ноющая, не прекращающая боль. Да и возвращаться назад к берегу этой речки, ему не зачем уже. Слава бога хоть, у него в случае чего, есть тот ориентир – железнодорожное полотно. Но толку. Поезда все также, с интервалами, со свистом проходили стремительно, не обращая на него. Поэтому он, не заблудится, пока еще в сознании. Главное, он не должен стоять у дерева, подолгу на одном месте. А попытаться, все – таки шагнуть, не взирая ни на что: на боль, на потери сил, продолжить в путь, и выйти ему, чтобы не случилось, на эту спасительную опушку леса, а оттуда, у него после, уже страх исчезнет, что навсегда потеряется в этом лесу. То, что и деревья уже на его пути стали реже попадаться, это уже говорило, что он в правильном направлении идет, а не углубляется, наоборот, обратно в лес. Хотя, полотно железнодорожное, все же оставался у него в стороне. И папоротник, он в чем – то его все равно помог. Рот у него, будто, как бы освежился, да и икоты уже не было, мучающий его до этого. Но самое главное, он это ощутил, язык у него стал чуть подвижным, а не как тогда утолщенным, неудобным, когда пришел в себя, после как с трудом выполз на четвереньках, из этого плена с куста ивы. Теперь бы ему еще, остановить из раны кровь. Видимо он, когда последний раз споткнулся с потерей сил, повредил за одной, падением, и свою рану. Потому у него, и рубашка его сейчас густо окровавлен кровью, и мокро там. А это уже плохо. Он понимал. Ему надо все же, как – то остановить этот кровь, из продырявленных ран. Но как это он остановит? Нет у него под рукою ничего, кроме этой нательной майки, которая сползла вновь к животу, после последнего падения. А её приподнять к ране, ему надо обязательно; да и по пути, собрать бы ему и паутину у теневых кустов. Конечно, водки и спирта у него нет, но мочой своим, он может же промыть её и приложить к ране. В детстве, когда он, катаясь на взрослом велосипеде, как – то так получилось, цепь велосипеда оторвал у него, помнится, кусочек пятку. Ну, пятка его попала под цепь. А сестренка, которая теперь у него живет в Челябинске, это она тогда и помогла у него остановить кровь с его пятки. С этой паутиной, промытой с её мочой. Иначе, если он это не сделает, с потерей крови, останется навсегда тут в лесу. Он это, как раз и понимал.
***
А между тем, тут уже в деревне, Надя, его жена, так и не дождавшись мужа, указанной в телеграмме время, и уже, сильно беспокоясь за мужа, позвонила в этот Нурлат, к диспетчеру железнодорожного вокзала. Хотелось ей все же выяснить и уточнить по подробнее, прибыл ли этот поезд, в котором должен был приехать её муж, Сергей Володин. Он ей, и сам, перед этой своей поездкой, специально еще из Сургута, заранее с телеграммой известил, что такой – то он день, приедет домой. И попросил её еще в телеграмме, чтобы она к его приезду обязательно затопила баню. Ну, конечно же. Какой разговор тут может быть. Как же ей было не послушаться к просьбе своего мужа – кормилица. Он же, и правда, был кормилец теперь в семье. Что она там сегодня, в своем детсаде сейчас получала? Сказать даже стыдно. (А говорить об этом, видимо, надо, а не молчать) Инной раз ей, честное слово, временами даже, хотелось выкрикнуть с досады, сжимая над головою кулак: «Нашего бы гаранта говоруна, обещал ка ми, посадить на эту мою зарплату, да и с такими ценами в магазине, как бы он тогда?.. Но, преемник оппортуниста Ельцина, был далеко от неё, в бункере своем, говорят, да еще только на экране, в телевизоре, а она тут, в своей деревне. Ну и что у неё за плечами, высшее образование? Светится что ли ей лампочкой из – за этого, перед теми, кто этого не получил в жизни, в силу многих причин. Сегодня это, как говорят уже многие ей: в зависти, или просто так, чтобы язык только почесать: ничего не значит, если ты из сельской местности. Ни для карьеры, ни для полноценной семейной жизни. Вон, пишут в газете. С разрешения властей, видимо. Недавно она читала. Или все же с телевизора выслушала. Что до этого развала страны, оппортунистом Ельциным, и с его ориентированным на Запад командой, их инженеров в стране было, двенадцать миллионов. Теперь, вон, и страна уменьшился до пятнадцати республик, с распадом союза, говорят, инженеров в стране почти не осталось. Повымерли они, что ли на самом деле? По рецептам, того же рыжего Чубайса? И зачем тогда, казалось, они учились с мужем, отрываясь надолго от родительского дома, мучились недоеданием в студенчестве, в этих «общагах», если образование их, сегодня никому не нужно. Конечно, они в Лондоне и в Америке не учились, как дети этих нынешних (Хитрова нов) западников. Инной раз, ей, и правда, хочется выкрикнуть. Пусть, что будет, да будет потом. Ну, сколько еще можно терпеть? При коммунистах терпели, а тут сегодня, что?.. Снова?.. Гайки закручивать решили? Или кому из сановных чиновников – бюрократов, 37 год снова кружит голову, после того, как не честно завладели богатство нации. Поэтому, иной раз ей хочется встать, вот так (видимо, правильно она бы поступила – терпения уже нет у неё, сколько еще терпеть), лицом в сторону этой сытой Москвы. Имеет же она на это право, как гражданка страны, как электорат, на их выборах, задать этому преемнику оппортуниста Ельцина. Хотя, он теперь и уверяет, что не Ельцин его преемником сделал, как он говорит сейчас, во все услышано, голосом своего пресс секретаря. (Он тогда и, правда, был недолго в должности, председателем правительства при Ельцине). Но все же, пусть, как он и утверждает. Уже не важно, кто его тогда протолкнул на эту должность: Березовский или оппортунист Ельцин. Наивный простак, поверит его слова, а политик, прожженный, просто понятливо промолчит. Но все равно. «Знает ли он, вообще – то подлинно, как его электорат в провинциях, особенно в деревнях живет? И не обманывают ли его сановные буржуа – чиновники? Как живет, на самом деле, его электорат». А там людей – то. Ох! Как еще много. Живых еще, не тронутых еще, пожеланием того рыжего Чубайса. Теперь он, – говорят, – сбежал из страны, и фамилию сменил, хитрец, на Натана Боруховича Сагала. Как и, М. Горбачева дочь, в Германию. Вот те на… Теперь, чтобы заглушить эту новость из телевизора, слышно только: «цены в стране стабилизировались». «Ура» – кричат уже в следом, эти платные из телевизора пропагандисты, доставившие этому электорату, «ужас!», со своими кликушами. Что уже телевизор смотреть уже не хочется. Это где стабилизировались цены? В этой сытой Москве… у них? Но Россия ведь – это не только безразмерная Москва. Но почему – то в качестве примера, как бы смеются, сообщают, что соль, оказывается у нас, подешевела на три копейки. Ну не смешно? По телевизору это сообщили воодушевленным приподнятым голосом. Как во времена советов. Помните, наверное. А на самом деле. А на сколько, жизнь подорожала за это время, по сравнению, пусть даже, советским периодом? И сколько их умерли? Знают ли? Или им стыдно огласить? Или разрешение еще не получили? Честное слово. Молчать уже нельзя. Плакать иной раз ей хочется со стыда, от этих продажных пропагандистов из телевизора. Молчали ли бы уж, – в сердцах тогда говорила она,– помнили: начальники, какие бы не были – золотые или говнистые, приходят и уходят, а народ остается. О них больше, надо думать. Почему до сих пор, этот народ, в нищете прибывает. Имея столько несметного богатства в недрах. Слава бога еще, в нынешней жизни в стране, огороды помогают деревенскому жителю, да и живности, которые еще сохранились, после развала и роспуска колхоза. А так, просто, ничего не оставалось. Кричи караул, никто ведь не услышит, что в провинциях, в этих деревнях страны, делается, в этих дорогих властных кабинетах. Что, её муж, от хорошей жизни, скажем так, взял, да и бросил просто так, любимую свою работу: школу, своих учеников, деревню свою, и отправился в этот, неизвестный для него, Сургут? Если тут он, у себя, на родине предков, где он родился и вырос, учился, никому не нужным стал, с этими переменами в провинции. Спрашивается? И что ему было делать? Плакать, что ли ей. Да и зачем? Вон у нее в руке телеграмма. Муж её, Сергей Володин, просит в нем, чтобы она к его приезду, затопила обыкновенную русскую баню. Что это значит? Это значит, верила она его, приедет домой её любимый муж с деньгами, честно заработанными, которые так нужны в её семье. Понимала, дом – то новый, что через дорогу – надо его обновлять, доделывать, раз её выстроили. Да и прикупить еще, кое – что из мебелей, не докупленных, из – за нехватки этих денег, да и, о сыне надо было теперь думать. Подрос он у них уже. Уже просится, наивный, ничего не зная эту жизнь в стране, чтобы его мамка с папкой отправили в город учиться, где они, когда – то сами учились в свое время. Нынче, вот, сын у нее, школу заканчивал. А как его отправишь? Да и на что спрашивается? Сегодня для учебы нужно немалые деньги, чтобы там ему было, сносно хоть жить и учиться, а во – вторых, чем еще ему питаться там, если денег не наберут для него; да и учеба сегодня, о – ё – ё сейчас, нынешнее время, кусачая – не по карману, особенно, сельскому жителю. Ровно, все так же получался, как те подзабытые уже, Хрущевские времена. Там тоже, чтобы получить только аттестат этой зрелости, сельскому жителю, надо было платить деньги на дальнейшую учебу. Вот и у мужа отец, Иван Иванович Володин. Он бы никогда не стал бы ветврачом, если бы его родители не продали кормильцу – корову, для его учебы. Корову. Понимать надо. Иначе, этой молодёжи из деревни, заранее было уготовано, после семилетки, только «пахать землю на тракторе», прославляя эту партию в колхозе, ударным своим трудом, как в кино, в прошлых фильмах, знаете. Понятно же, она для пропаганды запада в телевизоре только было нужно. Для таких, недозревших, – и все еще слепо верящих, местную власть, – простолюдинов, из деревенского сословия, что у нас в стране, как поется в известной песне, доступна учеба всем. Кто желает учиться. А в реальности, на самом деле, у простоватых людей, – ну, согласитесь же, черт бы вас побрал! – они же не начальники, с миллионными зарплатами. Поэтому у них, с мизерной корзиночным минимумом, установленной там, в Москве, наверное, денег не было лишних, дальше на платном вузе их детям учиться. Да и докажи после всем: права она, или не права, что справедливо поругивает она иной раз, эту местную власть, ныне действующую, погрязших коррупциях. Конечно, как её семья ныне существует, виновата в нем, видимо, и электорат. Если уж, на то пошло – на откровенность. Зачем им, особенно, пенсионерам, а их почти больше сорока миллионов в стране, на выборах, при оппортунисте Ельцине еще, тянуть было выше всех свои руки, чтобы получить эти двести, сто пятьдесят рублей, к своей пенсии добавки. Хотя и видели, как у оппортуниста Ельцина опричники: Гайдары – Чубайсы, и всякие там еще, примкнувшие к ним «людишки», вместе с ним, в Москве, ломают уклад жизни народа в свою только пользу. Откуда же они, в один миг, все богатыми стали, при нищем своем электорате. Поэтому, сколько еще это безобразие терпеть народу. Все тогда делалось в стране, да и в провинции, на фейке – обмане, – правда же, – с самого начала, когда разрушали этот общий союз. Но ведь и пенсионеров можно было понять. Уставшие от многолетней монополией прежней власти, в то время они и за черта рогатого проголосовали бы тогда, да и сейчас. Лишь бы жизнь в стране была, как обещают им перед выборами, всегда эти господа – товарищи, будущие депутаты в Госдуму, в газетах, с телевизора, и во всех дыр, где только их слышно, что жизнь в дальнейшем будет у них, у электоратов, если их выберут, как на западе. Да еще в придачу, дополнительно обещают каждому две «Волги», всучив им эти, так называемые бумажки – ваучеры. Видеть было, как за эти бумажки, дрались в очередях, чтобы первыми заполучить его. А в результате, что же они получили взамен? Все это знают теперь. Правда же. Пустые ничем закрепленные только слова. И кто мог подумать тогда, что эти красивые призывы новой этой власти, приведут людей в стране и в провинции, вскоре, к полнейшей нищете, при этой огромной по территории и богатой ресурсами стране. Да еще там, в её жизнь тогда вмешался и этот «элитный жених», из этих, раздобревший с ельцинскими подачками. Учились они вместе в одной группе. Но родня его, увы, как невестку теперь сына, разбогатевшая в один миг, на этих залоговых приватизациях, всерьез уже не хотел иметь – нищету простолюдинку. Поэтому, так называемый, её «жених», из семьи новых русских, вскоре исчез из её поля зрения. А Сергей Володин, он – это, видимо, и правда, её судьба. Встретились они в первые, на институтском крылечке. Она ведь в мужа деревне, как бы пришлая сейчас. Хотя её деревня, от мужа деревни, находился друг от друга всего в десяти километрах. И Володин её тогда, вряд ли, когда – либо встретил, если бы не это её учеба там, в Челябинске. Они оба тогда учились в одном институте: она на географическом факультете, а он, позже это выяснилось, когда он с нею тут поближе познакомился. Он сам ей после этого знакомства сказал, что он учиться уже на втором курсе, на историческом факультете. Затем они, после этого знакомства, долго удивлялись, что они оказывается оба из одной местности, и даже из одного района. Но тогда это их знакомство, к сожалению, или судьба у нее такая тогда была в тот период, не получилось ей это знакомство закрепить с регулярными встречами. После второго курса, что у него там стряслось? Именно для всех. Он, после второго курса, осенью, неожиданно для всех, отправился в армию. Она в начале, и правда, не знала причину его, почему он не стал дальше учиться. Но потом уже, через какое – то время, однажды, не надеясь ни на что уже, он ей прислал письмо, когда она училась уже на третьем курсе. И почему она тогда его поверила? Или все же, письмо его удивило её тогда содержанием? Да, в письме он, и правда, пытался ей объяснить, почему он так поступил с учебой. «Сегодня оно, ничего не дало бы мне, эта учеба. Понимаешь, Надя. Когда сегодня, сама ты видишь, все воруют, от самого верха и до самого низа. А губернаторы, как перчатки меняются. Не успевают их менять. И никакого, казалось, контроля. Только: бла – бла – бла и слышит этот народ, (из ящика) телевизора. Обещал – к – и.» Мне это было противно наблюдать со стороны. Мне стыдно было за них. Да и что я изучал бы… Краткий курс марксизма? Коммунисты разрушители, сами же отказались от этого ученья, как почувствовали для себя тут, эту нахал Яву», – сообщал он ей в своем письме. Конечно, она, к своему возрасту, не совсем того уж была, чтобы с этими пропагандистскими лозунгами с телевизора жить. То, что страшно в стране воровали и воруют, что и при оппортунисте Ельцине, что и при этом, его преемнике, она и без его подсказки знала и слышала на каждом шагу, читала из «Аргумента…», как от власти люди живут: широко и красиво, выплевывая временами, на живущих среди них простолюдинов – тружеников, плевки, вроде: «Бродят тут, нище броды. Мешают «элите» жить». Слава бога, в свое время, она еще училась бесплатно. Была бюджетником. А теперь её сын, если захочет учиться, где же достать ей на его учебу эти средства? На деньги деревенской воспитательницы, ей не потянуть на учебу сына, а муж…слава бога, он вовремя «поумнел» от такой полуголодной пропагандисткой жизни в провинции, установленной этими, так называемыми «стратегами – демократами», как им этим простолюдинам жить среди них? После армии, он все же восстановил свою учебу, понимая, высшее образование ему нужно иметь, а после, вот, проработав в школе у себя в деревне, вскоре ему пришлось, переквалифицироваться в нефтяники. А так, просто караул пришлось бы кричать. В школе у него, за недостаток учеников, район Ники из роно, сделали его уроки в неделю всего один час. Раньше хоть, у него уроков было восемнадцать часов в месяц. Терпеть еще можно было. Но теперь школьников, конечно, в связи расформированием колхоза в деревне, многие школьники, с родителями уехали с родных мест, в другие места, где еще работа была для их родителей, а в самой деревне, из оставшихся учеников, пальцами пересчитать теперь можно было, сколько их еще оставалось. Ну и соответственно, и зарплата учителя в деревне резко упала. Он, конечно, поумневший на этих переменах в своей провинции, много раз ей уже высказывался, жалея себя и своих сверстников в стране, что если бы он, тогда умнее чуть был – это он, так говорил ей: то я, после армии, пошел бы учиться не на исторический факультет, а в инженеры пошел. С этим распадом страны, их, по этой специальности, в стране, ты сама видишь, обращаясь к жене, говорил он ей, – инженеров в стране почти не стало, или они сидят теперь на рынках, или выехали совсем из страны. Да он тогда, после армии, видимо, созрел продолжении учебы, а она, к тому времени уже закончив учебу, вернулась в свою деревню. В школу попасть, она уже и не надеялась. Времена уже были другие, после распада этого союза. «Зачем в деревне география», это так говорили ей, когда она по глупости и по наивной еще веры в справедливость, после тыркнулась было, в кабинет завуча, Антонины Васильевны Черняевой. Была она тут в её деревне, и президент, и премьер, в одном лице. Как не скажет она, так и принимались решение её в деревне. Так как у неё муж в деревне, был самый главный начальник в сельском совете. Теперь по-новому, по западному варианту, именовалась это здание – сельская Мэрия, в бревенчатом строении. И поэтому, что не скажет его жена, для деревенских жителей, это как негласно, было законом. Поэтому она, чтобы в школе работать, после института, до замужества еще за Сергея, закрепилась тут у себя в деревне, в колхозном детсаде, только воспитателем. После расформирования колхоза, районные начальники тут, хотели и этот садик прихлопнуть, как муху на столе, но, видимо, окончательного решения тогда они не смогли между собою поладить. Тогда ведь со страной, к тому времени, «правил» сменяемый президент. До сих пор помнили его слова, пущенные в народ: «Свобода лучше, чем не свобода». И он, не смотря на эти слова, что уж стесняться теперь в выражениях, только успел за свое президентство, поменять название: милицию на полицию, да остановил вместе с премьером, который до этого был до него президентом, с грузина – абхазскую войну. Спрашивается. Любопытно все же всем. Зачем, казалось, поменял он милицию, на полицию? Или все же нечем ему было отвлечь, из состоящих простолюдинов народ, от этой нищеты в его правлении? Хотя, теперь садик пока и существует, но неизвестно, что завтра с ним будет. Но как бы там не было, она за садик теперь, конечно, не будет цепляться. Теперь она после замужества за своего Володина, другая уже. А как её муж, начал на нефтянке трудиться, не так уж переживала за свою семью. Для еды, у неё огород кормила семью, а для учебы, она все же верила, сын поступит на бюджетное отделение, как они и сами тогда. Иначе, кого же ей было верить в этой стране? Человеку, который говорит, что страна теперь, со дня распада СССР, разбогатела даже, – он даже это выделяет особенно, тыкая свой палец к потолку – пятьдесят раз! Но как бы там он не говорил, все равно нет главного ответа, почему же тогда этот его народ, который голосовал за него на выборах, нищенствует до сих пор? Поэтому, может быть, если бы его друзья относились ко всем, кто рядом, так же, как он к своим друзьям, то нашему, и правда, государству, цены бы не было. Но кому это надо сегодня, кроме говорильни. Поболтали для проформы перед телевизором, и забыли до следующей встречи в эфире с электоратом.
***
А тот пассажир из поезда, а он тут, в этом Нурлате, раньше, когда еще колхозы в сельских местностях были, трудился в МТС – ких станциях (машина – тракторная станция), по ремонту тракторов, привозимых эту технику, из тех приписанных к району колхозов и совхозов, после уборочной страды, на зимний ремонт. Конечно, этих МТС – ких станциях, раньше применяемые при колхозах и совхозах, сегодня их уже упростила за ненадобностью. Но кое – где, все еще, со сменой сменяемости президентов, еще они сохранились в этом Нурлате. А то, как же. У этого Петра Гавриловича, в трудовой книжке, недавно еще, надпись такой там имелся. Что тут он, до своего сокращения и увольнения, и расформирования этого МТС в Нурлате, трудился инженером – механиком по ремонту тракторов и машин. Затем, после сменяемого президента, МТС – кую станцию, последнюю в этом Нурлате, где там до этого Петр Гаврилович трудился со своим коллективом, вскоре по решению властями района, и согласованный, видимо еще, начальством автономией, её реорганизовали. А после, переоборудовав на её месте, сделали из неё вещевой рынок: купи – продай. Да и территория, где выстроен он, эта станция, была подходящая для такого рынка в этом Нурлате. Поэтому, этому Петру Гавриловичу после, ничего не оставалось, как искать себе другую работу. Денег, конечно, у него свободных в наличии не было, чтобы как некоторые тут, в Нурлате, открыть собственную мастерскую, также по ремонту техники, но теперь уже, по ремонту легковых машин. Да и решиться на такой шаг, в начале еще, смелость была нужна. Да и открыть такую мастерскую, пришлось бы ему еще сходить в эту налоговую, получить там, от них, это разрешение стать ЧП. Ну, этим бы он справился. Все же образование у него техническое. Высшее. Но чтобы там еще открыть эту мастерскую, ему деньги еще понадобились бы на первое время, для развития своего бизнеса. Кредит брать, под девятнадцать процентов (тогда официально такие проценты были в банке), было опасно. Когда еще его вернешь, да и вернешь ли от такой скупой жизни. Да и в кабалу попасть не хотелось. А с теми деньгами, что у него лежали в сбербанке раньше, их уже нет теперь там, после позорного грабежа государством, в Ельцинском еще правлении. Поэтому, после долгого размышления и бессонниц, да еще чуть полаявшись со своим теперь истеричным супругом (нет, она нормальная была при советах, теперь, вот, при этой власти, стала истеричной, от вечной теперь нехватки денег в семье), он в начале, было сунулся, наслушавшись от других доброжелателей, тут же в Нурлате, на нефтянку. Больше не было другой работы подходящей для него, тут в Нурлате. Дворником он, конечно, не пойдет, имея высшее техническое образование. Но там, откуда ему было знать. Чужих там, не связанных нефтянкой, людей с улицы почему – то не брали. Да еще он с образованием был. Инженер. И не по профилю еще, – сказали он. С его же образованием, на корзиночную зарплату, не направишь лопатой работать? Что ему после было делать? Вешаться нельзя. Он все же был христианином. Да и семья, дети. Хотя, и, огород у них еще был. То есть, так называемая дача. Шесть соток, выделенный еще его родителям, еще советами, прежней властью. Но что он там посадил бы на этих жалких сотках? Там у него яблони, вишни, и чуть клочок земли, было занято клубниками. Жена его еще при советах занималась ими тогда, чтобы на рынке не покупать в три дорого детям. А картошку там не посадишь. Мест не было больше, а сунуться еще куда – то дополнительно? Толку. Чтобы его потом, по осени, ночью кто – то из безработных выкопал? Поэтому, куда ему было сегодня еще дёргать? Да и жена его уже открыто стала наседать на него, чтобы он что – то сделал, наконец, для стабильности своей семьи. Поэтому, когда созрел у него окончательно план, на этот дальний от Нурлата Сургут, да еще обещал к нему присоединиться, такой же, как и он… маявшийся до этого, без работы… Он тоже из Нурлата был. Работал он где – то тоже в какой – то ремонтной мастерской. Мастерская, – как рассказывал он ему, тогда у них погорела. Не рассчитались средствами: с арендой, с кредитами. Конечно, тогда, до этого знакомства, одному ехать туда в Сургут, как – то было страшновато ему, а, вот, вдвоем, все же легче было ему переносить эти невзгоды вдали от родных. Да у него и образование было. Все же при советах он, пусть тогда еще и молодой был, но он был, и правда, неплохим инженером, в этом МТС – ком станции. Поэтому, страх, как у всякого, конечно, у него был, отправляться в этот чужой неизвестный для него край. Да и размышлять долго, не было уже смысла и времени. Семья кушать хотела, а деньги, которые были еще в семье после его увольнения, уже от них ничего не осталось. Ждать уже не было смысла, ожидая чуда, что – то там в этой сытой Москве, что – то изменят для облегчения жизни своего электората в провинциях. То, что там с телевизора, временами лизоблюды от власти, «тренд или», оптимизма никакого уже не было. Да и сидеть, ожидая этих хороших перемен, не было уже смысла. Не слепые, видели с экранов телевизоров и с «Аргумент …» газет, как некоторые тут «ушлые», за счет этого электората – труженика, не честно обогащавшие на корпоративных залоговых приватизациях, становились без шума и задоринок, долларовыми миллионерами, а после уже, и приближенные к новой власти люди, превращались миллиардерами. Этого скрывать резона уже не было. Народ, конечно, терпеливо наблюдал, ждал этих «честных» перемен, зная не понаслышке, что оппозиционер Ельцин, как президент России, далеко не прост был в руководстве страны. И, вот, результат от его власти, он перед самым новым годом, в двухтысячном, когда, видимо, все же понял, или переубедили его, правление его погубит в дальнейшем страну. Видимо осознал, что даже не послушал свою дочь Татьяну со своим зятем. Теперь они, говорят, живут за границей. Хитрецы. Как и у Горбачева дочь, в Германии. Россия уже не мил, выходит, без всесильных отцов. Перед новым годом выступил по телевизору, что он уходит. И хватило у него даже смелости и совести, попросить у этого народа, прощения, после того, что он натворил со страной и народом. Ну и, конечно же, народ российский, вновь в очередной раз, как всегда,» слепо», конечно, поверил Ельциным выбранного им преемника. Что он, уж точно, в своем правлении, как «лидер уже обновленной России», страну поведет по правильному курсу. И шахтеры привозные, при оппортунисте Ельцине, не будут уже касками стуча, требовать на хлеба деньги. Ведь этот народ, все это знали, не жил никогда сыто: ни при царях, ни и при коммунистах. Вечно этому электорату российскому, что – то не хватало, не доставало. И кто был в этом виноват? Может, народ сам. В свое отстоять не может до сих пор. Или все же, выборная власть? Сегодняшний. Не ясно до сих пор, для большинства населения страны. Народ видел, он же не слепой, и при этой новой власти – преемнике, столько мерзости всплыло после этого беспалого оппозиционера. Как приближенные к власти люди, все также тихо и нагло обогащались, становились миллионерами долларовыми, а некоторые даже, приватизировав, как, не понятно трезвому даже человеку, эти нефтяные и газовые отрасли, успели при этом уже преемнике оппортуниста Ельцина, превратиться в миллиардеры долларовые. Не потому ли 36 % национального дохода страны (это только официальные цифры, оглашенные в газете «Аргументы…»), принадлежат сейчас, этой кучке. Как это допустили? Природные ресурсы по Конституции, принадлежат, вроде, там так и сказано:» … основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Народов, все же сказывается». В голове не укладывается. Конечно, нельзя исключать и заслугу этого человека. Он все же, остановил на Кавказе войну. Чем он усмирил этих «горячих» чеченцев? Господь бог только, правду теперь знал, видимо. Но при нем уже, разрушенный Грозный, превратился красивейший город, а народу Чечни, видимо, и правда, хорошо заплатил за стабильность в регионе. Они вскоре поуспокоились, и мир, все же, «какой – то» установился в этом данном регионе. А народ российский – он, преемником тоже не забыт, конечно, в словесных перепалках, в ежегодных телевизионных встречах с электоратом страны. Но, увы, у них теперь, кроме нищеты в семьях, прибавились и эти распоясавшиеся бандиты, сформированные улицами, районами. Которые, видя, как «царёва» друзья обогащаются за счет своего электората – труженика, сидя рядом с властью, пошли они тоже в народ, вытряхивая с них, что у них еще осталось от их нищеты. Но зато, какой был в стране праздник, когда этот ставленник оппортуниста Ельцина, стал электорату российскому объявлять, свои ежегодные встречи к разговору, перед экранами телевизора. А ведь народ, поверил его, действительно, что он вскоре покончит с этим позором – нищетой, когда у страны на сто сорок шесть миллионов населения, такие территории и несметные богатства в нем. Да в таких встречах, действительно, народ замирал, уставившись на свои экраны телевизоров, ожидая хорошего известия – закона, от этого ставленника Ельцина. Да и народ, в эти минуты верил его, и даже похваливал следом за пропагандистами из телевизора. «Какой же у нас президент, молоток, и правда. Молодой, но свой русский, российский», правду матку кроет, – говорил электорат в большинстве (тогда еще в большинстве), в экстазе, видимо, после этих встреч. Некоторые, даже от счастья, что у них такой «правильный» президент, плакали, выдавливая из своих счастливо смеющихся глаз, эти слезы радости. Но после этой встречи, с преемником Ельцина, народ российский, в ожидании «счастья», уходил на годичный антракт, до следующей встречи. Как после удачного спектакля, знаете, с надеждой, что после этой встречи, теперь уже точно, как заверил им прилюдно ставленник, они вздохнут радостно, и споют, к уважение к нему – аллилуйя. Также и этот Петр Гаврилович думал тогда с надеждой, после таких встреч, с преемником Ельцина, с телевизора. И жене, и своим: сыну и дочь говорил, счастливо потирая свои руки: «Ну, теперь – то, сама видишь. Не ругайся только, пожалуйста. Немного ждать нам всем осталось, этого «взрывного» счастья. Заживем тогда. И он точно, не обманет нас, как его «босс Ельцин», тогда с нами. В стране, вот увидишь, лучше станет жизнь, для обиженных людей властями местными, вот, как мы». Но работы у него все также не было, и после того, как упростили его МТС площадку, единственную, еще сохранившую в Нурлате, для ремонта тракторов и машин. Там теперь, куч ковались на этой площадке, уже переоборудованной, переделанной, новые зарождающие буржуа, «бизнесмены новой России»: купи – продай. В одном месте купил по дешевке, а в другом, в три дорого продал. А раньше их, прежняя власть, в своих газетах «Правда» обзывали этих «подпольных» цехов и ков, спекулянтами. Травили в психбольницах лошадиными дозами таблеток, сажали в тюрьмы, да и бывало, расстреливали, слишком уж борзых. Что ж поделаешь.» Развитие и взросление нации», – как размышляли теперь, пришедшие к власти сегодня люди, – нельзя сдерживать их уже в ежовых рукавицах, как когда – то случались в прошлом, во время правления страной, коммунистами. Возможно, может, и правда, виновны они, что потеряли «великую» страну, с таким количествами членами партии, исчезнувшие с одним росчерком пера оппортуниста Ельцина. Дай бог, эти теперь, имея такое богатство полезных ископаемых в недрах, также не довели этот электорат – народ, тоже, до этих ручек. Ведь, давно убедились, это же не секрет, чтобы прятать это от электората страны, с разговорами сыт ведь вечно не будешь. И кого тут винить в нищете электората теперь? Человека власти? Что ли? Так он, совсем, что ли, Ку – Ку, сошел с ума, обманывая своими разговорами свой электорат, который голосовал лично на выборах за него? Может, и правда, как говорят шёпотом в народе в своих кухнях. Страшно же, это его ряженые сановники и силовики ставленники, а их в стране, оказывается, миллион триста, говорят, сидящие в разных коридорах власти, обещал, ка ми только занимаются, после его встреч с электоратом страны. Может и, правда? Это они, сановные чиновники и силовики, выходит, тормозят развитие страны? И поэтому, такая текучесть губернаторов, выходит, в регионах. Все они, что ли ворами оказались? Странно. Выбирал и назначал – то их – доверенный на выборах народом – президент. Сам же говорит. Никто его за язык не тянул. «Я починяюсь только народу». Хотя, пресс секретарь его, обратное говорит по телевизору, что не он их выбирает, а назначенец сам изъявляет быть губернатором. Ну не смешно? Поэтому, так и хочется крикнуть этому Петру Гавриловичу временами, в пылу ярости, возвращаясь с экрана своего телевизора, на эту грешную землю: «Сталина бы сюда хоть на время. Дурить хотя бы перестали». Но, Увы. Этого нельзя было позволить, зная хорошо прошлую историю страны. И Петр Гаврилович, этого понимал. Да и, все россияне, кто дружил с мозгами, и кто пострадал напрасно, тогда от них, это понимали. Кроме, конечно, холуёв – этих вечных шакалов, при любом системе власти. Человек он, когда долго служит на должности, временами, и правда, терял ориентир, для какой надобности он тут сидит – командует. Где здесь та верная середина? Поэтому и у этого Петра Гавриловича, после разговора с женою и с детьми, в его судьбе ничего не изменилось. Как он числился в общей списке страны – безработным, так и оставался он в том же порядке. И в этом небольшом моно городке, где его семья проживала, выходило, и с его инженерским образованием, работа тут для него не находилась, при этой даже новой власти. Теперь ему, кому верить? Кому за помощью обращаться, что он, и его семья, были хоть как – то стабильно сыты, с этой жизнью в стране, с этой нежданной лживой демократией, и сменой власти в стране. И поэтому, узнав, что в Сургуте, в этом нефтяном крае, он может своим знанием пригодится в той территории, тут же загорелся с этой идеей. Конечно, по карте он знал, где это находится город Сургут. Это, в первых, было все же по нему далеко слишком. Он же в своей жизни, может кому – то это и смешно, но такая жизнь в стране тогда была при коммунистах, дальше Казани, нигде он почти не был. В Казани, он учился на этого инженера, сразу после армии, а до Москвы, тогда доехать, не по надобности ему тогда было. Тем более теперь, до этого Сургута. То, что там сегодня, эти олигархи прихвати заторы, добывают для запада в основном нефть, газ, слышал он не раз по своему телевизору, но, чтобы, когда – либо оказаться в этом Сургуте, кто бы сказал, не поверил. Ведь всегда он говорил, бывало, своей красивой жене. «Там, конечно, сама догадываешься, не маленькая. Телевизор смотришь. Все там теперь прихвачено. А что Сургут? Олигархов там этих, порожденных этой властью, думаю, сегодня несметно: маленьких, больших ворот илов». Но еще, чтобы доехать до этого Сургута, он понимал, не глупый же он был, ему еще надо было, где – то на дорогу заработать, и там еще, на эти деньги, хоть какое – то время продержаться до первой получки. А детские деньги, сколько там сейчас его дети получали? Этого даже, вслух нельзя было, без стыда произнести. А где, вот, заработать этих дорожных денег, он, к своему ужасу, представление даже не имел, где еще это ему можно, в этом Нурлате заработать. Но, все же, сунулся в это ЖКХ, в эту кантору, и там заработать себе на дорогу, до этого Сургута. Иначе ему не собрать было этих денег на дорогу. А занять где – то, у кого – то? Это сегодня, для него, невыполнимо и проблемно было. А у соседей и знакомых, откуда для него им найти этих денег? Сосед его, – как его там. Виктор, кажется. Так сует на своем стареньком «колымаге» Жигуле. Тоже, давно мучается без работы, как упростили и у него трест в этом Нурлате, где он до увольнения трудился на стройке. А из знакомых? Кум, что ли? Он с ним сегодня, даже не захотел бы разговаривать, после того, как он его подвел. Не занял ему денег, когда ему, в то время, так были нужны эти его деньги. Тогда ведь, у него, у передовика, и деньги были на книжке. Но жена его в последнюю минуту, зачем – то уперлась, заплакала, что дети её тогда… голыми «жопами» будут сидеть, если они одолжат куму деньги. Да еще в такое время. Теперь, вот, и локоть казалось рядом, но его не укусишь. Также и с теми деньгами, которые у него в сбербанке лежали. Пропали они у него тогда, одним росчерком государства, в лице оппортуниста Ельцина. Поэтому его деньги, после, никому не достались, а государство за этот грабеж, до сих пор, вот, извинятся, не хочет, или не желает. Тянет волынку, наверное, когда все передохнут. Но деньги он потом, все же заработал на дорогу. Как и хотел, устроился в ЖКХ слесарем. Вначале он думал все же, по наивности, инженером его возьмут туда. Диплом даже им показал. Но куда там! Был бы он хорошо знакомым, или родственником начальника ЖКХ, его бы тогда, руками – ногами взяли, точно, инженером. Но им чужой человек, зачем? Да еще с инженерским образованием. Там своя была специфика, налаженная годами, как надувать обслуживающие с их конторой жильцов тех домов, которые они» по бумажке» обслуживали. К примеру, кран на кухне починить, или поменять, заплати сначала в банке деньги за работу, (в одно время такая практика была), а после уже приглашай слесаря – водопроводчика менять у себя на кухне кран. Зато, квартиросъемщик не вовремя заплатил, к примеру, квартплату ежемесячную, плати пению, или тебе отключат свет, и подбросят в ящик почтовый, красный квиток, на оплату квартплату. А красный квиток, это, чтобы квартиросъемщику, должнику, стыдно было перед соседями, выходит. Это, видимо, такое изощренное наказание придумали они должнику. Поэтому, чужой, не проверенный человек, им не нужен был в их канторе. Потому они не знают, что он за человек к ним пришел устраиваться. Поэтому не каждый, начальствующую должность достоин, с улицы пришедший человек. А слесарем, всегда, пожалуйста. Но эти слесаря, долго у них никто не работал. Наверное, их не устраивал зарплата. Но, а ему, все равно было, где ему работать на данное время. Ему, главное, собрать на дорогу этих денег, и оставить какую – то сумму семье, пока он там, в Сургуте, не устроится на работу.
***
А тут ему, надо бы промыть рану, хотя бы, речной этой водою. Но прежде, надо ему еще дойти, или доползти, до этой говорливой с порогами речки. Приподнять бы себя, или лучше, черт с ним пиджаком, доползти бы ему, до этого берега. Но ведь он, не так и сильно от нее отошел; а с другой стороны, жалко ему все же от тропы сойти сейчас. Чувствует же он, вскоре будет опушка этого леса. Встать бы ему сейчас, собрать в один кулак, в едино силы, что у него еще есть, да доковылять как-нибудь до этой опушки леса, а после, черт там возьми! Пропади оно. Ведь после, не будет страха у него уже, что навсегда он останется в этом лесу. Но, все же, как же остановить ему из раны кровь? Может сначала ему перевязать рану нательной майкой, чтобы там после засох кровь, закрыл рану? Или может быть, и правда, доковылять ему сначала, до берега этой речки? И там, как бы приспособившись, остановить этот кровь из раны. Иначе, это впоследствии, должен же он понимать, не его пользу будет, с потерей крови. И он, конечно, это понимал. Но, вот, как же ему встать? Тут и поляна эта, где он все еще лежит на боку, чуть тут светлее, за отсутствием этих высоких деревьев. А земля тут, где он лежит все еще, задевая носом на этих павших и прелых листьев, чуть все же влажноватый. Наверное, в лесу всегда влажная земля. Но ему сейчас, все же, надо приподняться, не обращать на этот, сочившийся из раны кровь. Рубашка у него уже вся мокрая от крови, а о пиджаке, тут и говорить нечего, как бы ему плохо совсем, и правда, не стало. Он весь пропитан сейчас с лесной сыростью и своей кровью. Обидно даже было на него глядеть. В какую он перепалку попал, потерей контроля в поезде с незнакомцем. Доверился незнакомцу. Понимал же, не мальчик же, что страна его сегодня, как на поле сражение. Каждого, кого не бери, только выживал. Одни, воровали от нехватки средств, другие, грабили, а третьи, чтобы выжить, даже убивали, подобных себе особ. И не важно, кто перед ним: женщина, мужчина. Но ему сейчас, надо ли разглагольствовать, как живет страна? Не лучше ли, попытаться все же встать. И попробовать все же, доковылять до речки, хотя бы. Но возможно ли ему, это сейчас? Слишком он уж отошел от берега, или полотно железнодорожное, вначале его увела в сторону, а затем, уже поздно было ему к берегу возвращаться. Но ведь его влекло тогда по тропе, когда деревьев на его пути реже стали. Вот и торопливость подвело его. Шел бы нормальным своим ковыляющим шагом, да не упал бы, в очередной раз, споткнувшись торчащий на его пути, гнилому пню. Теперь, как же ему встать на ноги? Хотя, упал – то он, слава бога, легко. Под ногами было мягкая подстилка. И не так больно было. Но, вот, все же задел падением, снова на свою рану. Вот откуда у него сейчас этот обильный кровь. Его надо было остановить из раны любой ценой. Заляпать на рану, за отсутствием бинта, с этой паутиной, который он собрал с кустов, пока брёл. Теперь бы ему еще, как бы приспособится, привстать хоть, чтобы добраться до ширинки, промыть эту паутину своей мочой и, приложить после её на раны. Может такой способ и поможет остановить кровь у него из ран? Да пугает его и этот сумрак, который после солнечного света, прикрыл облаками эту поляну тусклым светом. Поэтому, как не больно сейчас ему, казалось, будто все ссадины и рана сейчас ополчились против него, которые в других обстоятельствах, он бы от этих болей, не лежал, уткнувшись носом к павшим листьям, а кричал от боли благим матом, чтобы привлечь людей. Но он тут теперь, в лесу, и нет никого с ним рядом, кому бы он огласил эту свою боль. А встать ему надо, какая бы боль не крошила его тело сейчас. Главное, выдержать ему этот «кричащий» боль в груди, встать. И он уже хрипит, готовясь к этому рывку. И он, Господи! Он все же встал. И еще, эта дрожь, от этого усилия. Да еще ему палка, подобранная по пути, помогает удержаться. В трех или в четырех метрах, или в шагах, от него торчит одинокая осина. Молодая красавица, и, такая стройная, синей кожурой. Вот куда он смотрел с дрожью, когда встал. Это его спасительница, чтобы удержаться на ногах. Она его будто колокольным перезвоном звонит, своими еще зеленными листьями, чтобы он шагнул навстречу к ней, к своей спасительнице. Эта помощь ему как раз и нужно. Но шаг ему теперь, пришлось сделать с выкриком и с болью. И у него это все же получилось. Встал, прислонившись спиною к стволу молодой осины. Это и спасло его, не упасть вновь на прелые листья. Теперь бы – а от него этот страх никуда не делся – остановить кровь из раны. Но для этого ему бы суметь как – то (просит он прощения), вытащить из ширинки «пипку». А после, само собою, дезинфицировать её мочой, эту подобранную с кустов паутину. Она сейчас намертво у него прилипла в ладонь, вместе с палкой. Но возможно ли? На сомнение у него уже времени нет. Кровь ему надо было остановить, пока он еще в сознании. А после… Он еще не подумал, что с ним будет потом, как потеряет контроль над собою. Главное ему остановить, этот мочащий рубашку из раны кровь сейчас, пока он в состоянии стоять и осмысливать. Получилось вроде. И моча пошла, и этот кусочек паутины промыта. Теперь ему отстегнуть пиджак и рубашку и приложить эту, комочек паутину, на эту его рану. Но для этого ему, вновь пришлось прилечь недалеко от этой осины на эти прелые листья, отдающей ему в спину холодком и сыростью. Теперь ему самое главное, приложить этот комок паутины на рану и лежать пока кровь не остановится. А это ему уже не известно, когда он обретет спокойствие. Главное теперь ему остановить кровь на ране. А лежать ему на этой подстилке все равно неудобно. Сыро там, да и холод лез под пиджак. Да еще тут, за этих редких деревьев, погуливал ветер. Проскакивая через него, шумно поглаживал его с холодком, как бы укрывал его этим своим одеялом. А шума у порогов речки, отсюда, видимо, он прилично отошел от нее, почти ему не слышно. Пахло только сыростью эта поляна, где он лежал. А затем, что это с ним было? На какое – то время, он даже, казалось, потерял контроль над собою. Сам он, ничего не помнил, когда через какое – то время, внезапно с толчком вздрогнул, подвигал головою туда и сюда, и даже, видимо, вспомнил о своем ране. Приподнял с усилием голову, уставился, как будто первый раз, воспаленными глазами, на эту свою рану, прикрытой паутиной, промытой c его мочой. Вроде, и правда, помогла эта паутина остановить кровь у него из раны. Детская память не обманула его. Он даже мысленно поблагодарил сестру свою. Которая, когда – то, в их детстве, помогла она ему, приложив паутиной, промытой с её мочой, на его рану, на пятку. А ведь, и правда, кровь из раны перестал мочить рубашку его. Теперь бы ему, попытаться все же вернуться обратно к берегу, суметь там, пока еще в сознании: снять с себя пиджак и рубашку, чтобы добраться до майки. И с ней, он потом затянет свою рану. А пока, цель у него одна, доковылять до этого берега; но прежде, конечно, заставить себя собраться встать, наконец. Первая попытка у него не получился. Прилег чуть дальше, наверное, от этой осины. Не мог ухватиться рукою за неё. Пришлось ему, на спину вывернуться, помочь себя ногами продвинуться к этой осине. После он, помогая рукою, а другая у него, как обломанная ветка висела, приподнялся, встал, оперившись спиною к стволу осины. Теперь ему только устоять, удерживаясь спиною за эту осину. Иначе он вновь рухнет, а после, неизвестно, встанет ли он вновь?
***
Вроде он, наконец, устроился на работу, чтобы заработать на эту дорогу деньги. Но, что он там сейчас в ЖКХ получит? Когда он поступил в эту кантору, что ж поделаешь, там тоже, не простаки сегодня сидели, умели считать чужие деньги, поэтому дали ему при принятии на работу, всего второй разряд слесаря. Ну, какие бы он там деньги заработал с таким разрядом слесаря? Курам только смех. Да еще он, только на подхвате участвовал, как ученик, выполняя работу слесаря. А остальную, конечную работу, доделывал уже заказ, с разрядом выше и намного опытнее его слесарь водопроводчик. Да и возмущаться ему уже не выгодно. Ну, где он, кроме слесаря в этом ЖКХ, может еще найти работу в этом Нурлате, спрашивается? Когда, все значимые по его образованию должности в этом Нурлате, уже давно перезаняты с новыми «элитами», этой уже новой власти. Там, если и освобождался какая – та должность: умер там, или переехал в другую местность, иначе говоря, в эту Москву или в Казань, такие значимые в Нурлате должности, тот же час занимали знакомые и родственники, этой власти люди. Это раньше, при советах, человеку выбора было чуть больше. Любую он должность мог претендовать, практикующий, в этой Нурлате. Соответственно, конечно, если он, или она, были с образованием на эту должность. Но, вот, когда эта власть демократов – в кавычках, добралась и до этого провинциального городка, тут тоже, послужная местная власть, сразу все начали упрощать, по приказу центра, конечно. Закрывать, будто, как ненадобные теперь: всевозможные комбинаты, существующие до них. И даже, этот единственный в этом Нурлате, сахарный завод. Он теперь тоже работал с перерывами. Колхозов ведь уже не стало. Их упростили, надеясь на это чудо – фермерство. И свеклу тоже перестали эти деревенские, оставшиеся без колхоза и без работы, выращивать. Поэтому и сахарный завод работал сейчас – (…намеренно мы сократили площадь сева свеклы – это говорит так, министр сельского хозяйства, Патрушева – сын). А зачем же сократили? Людей в городе, в деревнях, меньше, и правда, что ли стало от их политики? Слава бога, он, этот слесарь, когда рассказал, зачем он тут околачивается в их канторе инженерским образованием, с пониманием к нему отнесся, стал и его брать на дополнительную работу, после основной дневной смены. Ну и, конечно, денежки, после таких дополнительных работ, то есть, левой работы («шабашки»), стали появляться и у него. Поэтому, если бы не эти дополнительные работы, он бы, этот Петр Гаврилович, не в жизнь не смог бы собрать этих дорожных до Сургута денег. Да еще, по сегодняшней цене за дорогу, в поезде. Конечно, он благодарен был этому опытному слесарю водопроводчику, Ваньке, похожий на художника в своей черной беретке, нахлобученный на его лохматую голову, и полусогнутую фигуру, в ходьбе, что дал он возможность ему заработать этих денег. Но он, в памяти у него остался все равно, ну такой… не совсем понятной ему. Отдавая часть эти дополнительные ему «наварные» деньги, после выполненной работы, все подкалывался к нему: «Че, правда, что ль, в институте учился? А че, ты тогда, тут делаешь? Че, начальником, говоришь, не берут в этом Нурлате с твоим дипломом? Кумовья и родственники начальников мешают?» Поэтому он смог отправиться в этот Сургут только по осени. Когда уже заморозки первые пошли по утрам, да и дожди холодные зачастили. А жену, он все же, видимо, ревновал сильно. Отправляясь, этот Сургут, не зря, он выходит, обратил на неё внимание, сунув ей перед её носом, свой интеллигентский кулак. «Смотри у меня. Не балуйся. Да и детей в голоде не держи. Следи». Баба у него, действительно, была истеричная, от такой нищей в стране жизни, но зато, красота у неё была неописуемая. Черные, как у полу месяца изгибом брови, а волосы, просветленные. Разрешал ей подкрашивать. Музыкант она все же. В общем, и правда, она была красавицей. Конечно, после, как он отъедет, и ей придется выйти теперь на работу.» Хватит уже! – Это она так мужу сказала. – Отсидела сыном почти три года». Теперь бы ей сына пристроить в садик, а дочь, у нее уже в девятом училась. Почти самостоятельная уже была она, но тоже нужен был за нею присмотр. Чтобы она не забаловалась без отцовского присмотра, и не начала курить и пить, с мальчишками в подворотнях. Вроде она пока, не баловалась этим табаком, но ей уже нашептали соседи, что её уже видели, с этой электронной трубкой. Отцу это не скажешь, а вот поговорить с нею «хорошо», ей обязательно надо бы. Да и сентябрь уже приближался. Надо бы ей тоже достать этот диплом музыканта с пыльной полки, и сходить недалеко от её дома в музы Калку. Вот поработать только не успела, после музыкальной. Он взял тогда её сразу после учебы, в жены. Еще в Казани они поженились, а приехав сюда уже в этот Нурлат, на его родину, так и не успела пристроиться к делу, так как уже была беременна с дочерью этой, которой сейчас почти тринадцать уже. А там уже, после восьми лет сиделки, родила и второго – сына. Поэтому, когда ей уж было работать по своей специальности? Он тогда трудился, в этом МТС – ком станции, инженером – механиком. Им тогда, и правда, хватало на жизнь, одной даже зарплатой, который он получал. Тогда он получал, и правда, неплохие деньги. Но, а что не хватало, дача их тогда выручала. Сажала там, по малому, все. Жили, радовались, что дети здоровы, и не думали никогда до этих перемен. Ну, разговоры, конечно, случались. Живые же люди. Общались, конечно, глядя с болью на экран своего телевизора. Как там, в той же Москве, теперь, расстреляв из танков «Белый Дом», и развалив целую страну, власть и богатство страны, делили в Кремле, бывшие те же коммунисты. В общем, нахал Яву сразу почуяли, выходит, от безнаказанности и от молчаливого согласия самого населения. Но, всерьез, никто еще не верил, что с этими переменами в Москве, плохо им будет и здесь. Потом уже, после того, как этот Казанник – иуда, (был такой депутат), уступил свое депутатство этому оппортунисту Ельцину, а затем, с приходом к власти его, и тут вскоре, тоже стало плохо. Повылезли вскоре из всех щелей, и эти, так называемые в народе в прошлом, эти бывшие подпольные цех вики. Их стали называть теперь – бизнесменами. Ваучеры затем стали раздавать в этих стихийных очередях. «Волгами» стали переманивать электорат, чтобы он быстрее становился собственником, и голосовал на выборах за них. Хорошие были слова, радовало сердцу электорату страны, и люди вначале, и правда, поверили, что вскоре они, действительно, станут хозяевами у своих заводов, и фабрик. Потому они и скопом отдавали эти свои полученные ваучеры своему руководству, чтобы стать там, на заводе, законным уже собственником. Но, увы, их просто, потом, банально обманули. А заводы и фабрики, с которыми руководили тогда красные директора, вскоре, каким – то образом, становились банкротами. Затем их уже продавали, к пришлым всяким аферистам, или денежным тузам, разбогатевшие в этой тумане вседозволенности, а самих работников: фабрик и заводов, просто «тупо» сокращали и выпроваживали на улицу, в придачу еще, полностью обесценив, или обокрав их ваучеры. Вот почему народ и стал нищим, после этих «по все демократов». А Петр Гаврилович, после того как отправился в этот Сургут, собрав этих, наконец, денег на дорогу, теперь думал уже в своем вагоне, как его встретит, пришлого, этот Сибирь. Товарищ, с которым он вначале договаривался на эту поездку, увы, не стал его ждать столько времени, когда он соберет этих денег себе на дорогу. К тому времени он, пока этот Петр Гаврилович копил деньги на этот Сургут, он успел уже отправиться, на свой страх, в эту сытую Москву, а он, сам бы не ответил сразу, почему выбрал в этот Сургут, а не эту Москву? Видимо, все же, объяснили ему, или сам к этому решению пришел, что, в первых, это Сибирь, да и зарплата там была выше, с коэффициентами того региона, чем московская, для приезжающих лимитчиков. Но самое главное, почему выбор этот сделал он на этот Сургут, хотелось ему, видимо, увидеть за одной своими глазами и этот сказочный Сибирь. Как его малюют в разговорах, и изданных о Сибири книгах. Возможно, это пахло и ребячеством. Но, а что поделаешь, он же просто человек, такое существо. Пока он не потрогает, не пощупает, не успокоится. Банальная философия, конечно. Но за то, хитринок нет там, все натурально, как сама эта жизнь человека в этой стране. Но в первую ночь, по прибытии в этот Сургут, он провел, вынужден был, спал сидя в кресле на вокзале. Поезд его прибыл в этот Сургут под вечер. А он, кого тут знал? Да и опыта, что уж там, как кот наплакал, до этого Сургута. Откровенно сказать, нигде он не был, кроме своей Казани – это когда он учился на этого инженера. А Армия, это само собою. Отдельная история. Подписку он давал с увольнением. Он же, из провинции, не смотря в Казане, провел почти четыре года, пока учился. Да и вокзал там, это тебе не Казанский вокзал. Спасибо хоть. Место нашелся для него, тут, на вокзале. Вот на этом жестком кресле, он и провел свою первую ночь в этом Сургуте. Хорошо еще, в поезде заранее выспался, а то, караул пришлось кричать. Хотя, что у него имелся при нём – то? Сумка, запасом одежды, да в кармане еще, во внутреннем пиджаке, пять тысяч рублей, тысячными. Все. Больше у него собою ничего не было. Ах, да. Еще газета «Аргументы и факты». Это он в поезде тогда купил, у одного немого, который бегал по вагонам с кипой газет. Скучно же было. Чем – то надо было себя отвлечь от дум, что будет, и где он будет работать по прибытии в этот Сургут. Хотя, что уж ему гадать было? Он хороший был инженер – механик, по ремонту машин и тракторов. А на нефтянке, там без техники тоже, никуда не деться было. Поэтому он и был уверен, что среди своих теперь русских, без работы тут он не останется. Главное ему сейчас, не прогадать. Поэтому, ночь для него прошла на вокзале Сургута, пока без приключений. Хотя, что уж там. Сургут эта, все та же Россия. Грязи и тут видно ему: бездомные цыгане, и эти шустрые грязные мальчишки, шастающие по вокзалу. Никуда они не делись с улицы страны. Хотя и, бездомных, полицаи Медведева, все также, тихо вывозили близлежащие, почти вымершие деревни. Видимо, стыдно им властям тоже, такое явление. Но они, почему – то вновь и вновь объявлялись на этих местах, как чирьи, знаете, на теле, после простуды. Не зря же и в народе говорят: «заплатками не прикроешь запущенный нарыв». Поэтому, утро для него началось, с того, чего он, честно сказать, не ожидал. Хотя, в Нурлате своем, такого еще в привычку не вошло, как в Казане, в общественных туалетах. Там туалеты были сегодня платные. Также и в Сургуте, этот процесс кем – то было запущено на поток. Интересная вообще у нас страна – Россия. Да и начальники нынешние тоже. Вчера они еще были, яростными коммунистами, животы не жалея, кричали с трибун: «Мы коммунисты!.. ура!.. товарищи…», а сегодня, они уже либералы – западники, в церкви уже молятся, замаливая свои грехи. Но ведь, допустим только, если у человека денег нет, туда сходить? Е… алё! Ну, например, ограбили, зарплату выдали водкой и с порошками стиральными? Где ж ему тогда оправиться? На площади нельзя. Там полицаи Медведева в карауле, ждут – не дождутся, с дубинками резиновыми. В жизни реальной, они так и поступают. (Все это знают, но стеснительно прикрывают их). А у, в глухих заборов, если там еще людей нет, можно, наверное, еще по малому, но неприятно все же, если полицай Медведева, этот сегодняшний, невзначай подкарауливает? А он там, с дубинкой резиновой. Как быть тогда? Обделаться в штаны? Так пришлось и ему, изрядно побегать по вокзалу, чтобы тысячу сначала разменять на мелкие купюры, а у этой толстой и рыхлой тётки кассирши на туалет, не оказались тысячу его разменять. После еще, выстояв небольшую очередь в буфете, или как там, в точке, простоял, чтобы выпить кофе. Но тут и возмущаться ему не стоило, что с кофе с булочкой ему, пришлось выложить из своего кармана почти две сотни рублей. Если он так будет питаться в дальнейшем, вскоре ему надо будет кричать: SOS! Но кто сегодня это услышит? Не надо за это винить «электорат», что он зачерствел, с этой непривычной ему жизнью. Он не виноват, что выглядит со стороны, равнодушным. Ему к этому приучила действующая местная власть в стране, каким надо быть сегодня, если выжать хочешь в этом перевернутом мире. Это при советах, человек был, для соседей, близким человеком в разговоре. Товарищем. А сегодня, товарищи растворились в этой неравной жизни в стране. Поэтому, к этой жизни, и приезжему Петру Гавриловичу надо, как можно быстрее привыкнуть. А то он, в своем Нурлате, что он мог видеть, кроме нищеты? А Сургут с вокзала, ему сегодня в это утро, виделся, как другая страна. И люди тут, встречались ему, будто инопланетные. Смотришь на этого человека, улыбаешься ему, а он за место того также поприветствовать, насупившись, молча проходит мимо. Поэтому, он даже растерян был, не зная, куда ему теперь после вокзала направить свои ноги? Да и спросить у кого – то, этого было невозможно. Не слышали они его вопроса, да и некогда им было останавливаться. А обратиться с вопросом своим к полицейскому, сегодня, это даже было опасно. Черт его знает, как он еще поведет себя, видя перед собою приезжего, с пронзительным вопросительным взглядом. Поэтому он в первую очередь, поискал глазами, где этот киоск, торгующий газетами. Иначе ему просто караул придется кричать. Ясно, ему нужна, эта кантора нефтяников, где мог бы он там устроиться на работу по своей специальности. Что он зря, вместе с трудовым, прихватил собою из дома и диплом инженера – механика? Поэтому, долго ему нельзя уже в раздумье находиться. Придется ему все же, отбросив в сторонку все сомнение, обратиться к этим полицейским Медведева. Как раз они и шли навстречу к нему сейчас, стреляя по сторонам глазами.
***
А тем временем, Надежда, затрудняясь уже у кого еще расспросить о своем пропавшем муже, Сергея Володина, в растерянности не знала, что ей и делать дальше. Сидеть дома, ожидая известия самого её мужа, ей уже характер не позволяла. И опять же она, как привязанная сейчас. Тронуться надолго из деревни не могла – работа её не отпускала из садика. А поменяться с кем – то временно, конечно же, она могла и заведующего попросить за неё проработать в этот день. Главное, ей пока только узнать, ехал ли он, муж, в тот день, на том самом поезде? А этого, она могла выведать только у кондуктора, в котором он ехал в её, или в его вагоне. Она, или он, уж точно бы подтвердили, был ли он у нее, или у него в вагоне, такой человек по фамилии, Володин Сергей Иванович. Зная, билеты сегодня, все же у всех пассажиров обезличены. Человек теперь, потеряться бесследно, никак не мог. Раз он был там, в вагоне, кондуктор точно бы подтвердил, или подтвердила бы, что такой – то человек в её, или в его вагоне был. А для этого Надежде, все же придется отправиться в этот Нурлат, и там, на месте, спокойно все и разузнать, чтобы больше в сомнениях не пребывать. Конечно, она прихватит собою и этот её мужа телеграмму, в качестве доказательства, что он был на этом поезде, в котором должен был приехать в этот Нурлат.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: