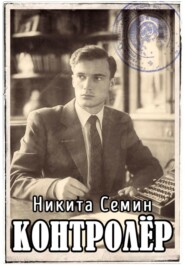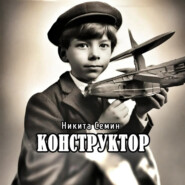По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Партиец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– …Этот год должен стать годом Великого перелома! – вещал Иосиф Виссарионович. – Когда мы окончательно уйдем от кулака-буржуя, и придем к коллективному ведению хозяйства! Да, будет не просто, но это необходимо сделать. Чтобы помочь крестьянам и ответственным руководителям на местах, партия и правительство сейчас работает над созданием законодательной базы. Переход должен и будет регулироваться в соответствии с Советскими законами, идя с ними рука об руку…
Хоть Иосиф Виссарионович и не отказался от идеи создания колхозов и фактически хоронил НЭП, меня радовало, что на этот раз будут изданы хоть какие-то законы, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными от произвола особо ретивых начальников на местах. И мне придется очень хорошо подумать, что в них написать. Ответственность – колоссальная. Радовало хотя бы то, что меня проверять будут такие зубры, как Жижиленко и Вышинский. Но в случае проблем с новыми законами, все равно крайним окажусь я. Вот эта мысль и давила и придавала сил, выкладываться на полную. В том числе и в учебе.
В конце января в газете строчкой промелькнула новость о высылке товарища Троцкого из СССР. После нашего разговора отец все же снова начал читать газеты, перестав отстраняться от происходящих событий, и на этот раз никак не прокомментировал высылку Льва Давидовича. Даже вечером не пил. Приходит вроде в норму.
Иосиф Виссарионович продавливал линию на создание колхозов не только с трибуны Пленума, или удачно воспользовавшись моей инициативой. В конце февраля вышел фильм «Генеральная линия: старое и новое».
Мы с Людой решили сходить на него. Меня привлекло название – как режиссер и правительство видят изменения в стране, а Люда просто радовалась нашему походу.
Ну что сказать о фильме? Пропаганда, как она есть, но смонтировано динамично для этого времени. По сюжету крестьянка Марфа с участковым агрономом собирают бедняков для создания колхоза, но им препятствуют местные кулаки. Да и многие бедняки не понимают, как работать в новом объединении. Сама девушка хочет создать не просто хозяйство, а молочную артель. И на помощь к ней и новообразованному колхозу приходят рабочие-шефы. Они покупают для артели первый трактор, и дело сдвигается с мертвой точки. А в конце фильма по полям уже едут десятки тракторов, за одним из которых сидит сама Марфа.
Как и сказал, смонтирован был фильм достаточно динамично. Картинка постоянно менялась, показывая то напряженные лица артельных, то крупным планом – ручку сепаратора, которую они все быстрее и быстрее раскручивают. Затем в кадр врываются вращающиеся диски и выводные трубы сепаратора, а в финале сцены – бурная струя молока и восторженные лица артельных крестьян. И как итог – строчки с цифрами, чего достиг колхоз.
– Хорошее начинание товарищ Сталин затеял, – воодушевленно заявила мне Люда, когда мы вышли из кинотеатра.
– Да, хорошее, – задумчиво кивнул я.
Вот так и формируется общественное мнение у людей. Особенно у тех, кто непосредственно не участвует в колхозах.
Незадолго до моей поездки в деревни со мной снова связался Михаил Ефимович.
– Ну что, Сергей, – начал Кольцов, буквально светясь от переполнявшей его энергии, – поедем на заводы? Узнаем, как они выполняют наше законодательство?
Вопрос был не праздный, мне и самому было интересно, к чему привело мое вмешательство, и поэтому я сразу согласился. Хоть прошел всего месяц с издания Политбюро указов по семичасовому рабочему дню, но мы в Москве живем, тут новые законы быстрее вводятся в жизнь, чем на периферии. Поэтому был шанс, что хоть какие-то изменения мы увидим. И наши ожидания полностью оправдались!
На тех предприятиях, где мы уже были раньше, нас уже знали в лицо. Из-за чего полностью откровенного разговора не получилось. Тут и директора прибежали быстрее, и сами рабочие следили за тем, что говорят – видимо не прошел бесследно для них наш прошлый визит. Но по введенным новым законам жить стало им и проще и сложнее одновременно. С одной стороны – теперь стало ясно примерно, к кому можно обратиться за помощью и как «надавить» на своего руководителя. А с другой – и от них самих теперь больше требовалось. Особенно от новых работников, еще плохо разбирающихся в тонкостях рабочего процесса.
В этот раз мы с Михаилом Ефимовичем пошли и по иным заводам. Вот там удалось поговорить с работягами свободнее.
– Оно конечно эти указы и вроде хорошо, – чесал бороду электромонтер Ходынкинской радиостанции, – теперь вот я могу, если задержался, подать бумагу в профсоюз, и мне эти часы протабелируют. А с другой, и спроса больше стало. Чуть раньше не уйдешь уже, коли все сделал. И просто так посидеть, перекурить, не получится. Мигом или штраф «за тунеядство» впаяют, либо запишут, сколько времени не работал. И тогда уже в иной день если задержишься, то никто табелировать это не будет. Вычтут то время, что покурить ходил.
Но в целом мнение было такое: спокойнее стало. Появилась уверенность, что самодурством теперь заниматься не будут. И правила «игры» стали «прозрачнее». Ну и то хлеб.
В рамках нашей с Михаилом Ефимовичем «проверки» я предложил заглянуть к Поликарпову и Туполеву. Соскучился по ним, чего уж там. Ну и интересно было, как наша авиация живет. А то выпал я из этого процесса. Лишь то, что отец рассказывает, знаю. А он со мной делится новостями редко. Не потому что не хочет – времени ни у меня, ни у него не хватает.
Хоть формально мы пришли на завод к Николаю Николаевичу с проверкой, я тут же пошел искать Борьку. Михаилу Ефимовичу сразу сказал мою цель, поэтому он отнесся с понимаем и пошел опрашивать рабочих сам. Вот только на заводе я его не нашел. Более того, меня удивили, что еще в прошлом году Поликарпова перевели на авиационный завод номер 25, сделав там не только техническим директором, но и главным конструктором собственного КБ. Только после этого я вспомнил, что Борька и правда упоминал нечто подобное. Но в связи с учебой и занятостью над написанием тогда книг я про это просто забыл. Пришлось переключаться на то, ради чего мы с Михаилом Ефимович «официально» и прибыли на завод.
Борьку я все же навестил. Друг стоял в сборочном цехе с планшетом в руках и деловито записывал данные полета, которые ему диктовал летчик-испытатель.
– О, привет! – радостно махнул он мне рукой, когда заметил меня. – Какими судьбами?
– В гости, – усмехнулся я, подойдя и пожимая руку друга.
Тот извинился и сначала закончил опрос летчика, а уже потом мы прошли в кабинет Николая Николаевича. Там и с Поликарповым поздоровался. Узнал, что кроме Борьки в помощниках у него целый штат конструкторов. Человек двадцать пять, не меньше! И работали они над многоцелевым самолетом-разведчиком. Но он и как бомбардировщик должен был использоваться, и как штурмовик. Также Николай Николаевич был верен себе и проектировал еще один биплан. На этот раз одноместный – развитие удачной идеи двухместного биплана, который пустили в серию и который я предлагал на конференции использовать как учебный самолет.
Много о своей работе он не рассказывал, а Борька поделился, что у Николая Николаевича какие-то проблемы с командованием ВВС РККА.
– И молчит главное, ни с кем не делится, – переживал друг.
Что там случилось у Поликарпова, я не знал. Мне он тоже ничего не сказал, заявив, что «все нормально, не переживай».
После мы поехали в ОКБ Туполева. Вот там если бы не мое личное знакомство с Андреем Николаевичем, даже ссылка на товарища Сталина не помогла бы. Нас вежливо попросили подождать, пока доложат руководству, но на территорию не пустили. Хорошо хоть я свое имя назвал, а Туполев меня вспомнил и велел пропустить. Да уж, с вопросами безопасности и секретности у Андрея Николаевича все гораздо лучше, чем у того же Поликарпова. Да хотя бы взять тот момент, что в комнату, где инженеры Туполева занимались проектированием, я так и не попал, а принял меня конструктор в собственном кабинете.
– Давно не виделись, Сергей, – улыбнулся мне мужчина. – Здравствуйте, – уже более сдержанный кивок Кольцову.
– Здравствуйте, Андрей Николаевич, – поздоровались мы с журналистом почти синхронно.
И тут же все рассмеялись от комичности ситуации. Коротко поделились новостями, причем больше рассказывал я. После этого Михаил Ефимович попросил разрешения поговорить с рабочими и, получив его, тут же умчался, оставив нас с Туполевым одних.
– А я ведь думал еще о самолете для кораблей потом, – признался я Андрею Николаевичу. – Сильно меня тогда задело, что не смог ничего создать.
– Вот как? И что? Есть какой-то результат? – тут же оживился конструктор.
– Есть мысль, – покачал я головой. – Почему обязательно делать привычный самолет?
– Ты о чем? – удивился Туполев.
– Я о вертолете. Таком аппарате, у которого винт не спереди, а сверху. Для него тогда и взлетной полосы не нужно – с места вверх бы поднимался и также садился.
– Аааа, вот ты о чем, – протянул Андрей Николаевич. – Вынужден тебя огорчить, Сергей, попытки создать такой аппарат были, но все они не увенчались успехом.
– Прямо совсем? – не поверил я.
Знаю ведь, что в будущем вертолеты были созданы и активно использовались.
– Из того, что мне известно – максимального результата добился Сикорский. Увы, он сейчас за границей. Да и он не смог поднять человека в воздух – только сам аппарат.
– И когда это было?
– Сейчас, дай вспомнить, – нахмурился Андрей Николаевич. – Если не ошибаюсь, в десятом году, – сказал он через пару минут.
– Ну так тогда и двигатели были слабее! – тут же нашел я возможную причину неудачи. – Поставить более мощный двигатель – и тогда не только аппарат, но и человек на нем в воздух подняться сможет!
– Ну и как он будет лететь? – тут же задал Туполев провокационный вопрос. – Вперед что его потянет? Еще один винт?
– Второй винт нужен, – согласился я, – но на хвосте.
– Для чего? – удивился конструктор.
– Чтобы сам аппарат по своей оси не вертело. Я когда о мощном винте думал, понял, что сам вертолет будет закручивать. Вот чтобы стабилизировать его, и нужен винт на хвосте. Но расположенный вертикально, как на самолете, и сбоку. А для движения вперед-назад можно верхний винт наклонять. Или вообще – сделать два винта на крыльях, как на самолете, только расположить их горизонтально. Как такой самолет поднимется в воздух, винты опускаются в горизонтальное положение, и получается обычный самолет.
Вот эта идея заинтересовала Туполева гораздо больше.
– Интересно. Но механизация крыла получится сложной. Выдержит ли конструкция? Смогут ли два винта поднять такой самолет вертикально, без разгона? – стал вслух размышлять Андрей Николаевич.
– Но ведь идея не фантастическая? – заметил я.
– А? – отвлекся ушедший в свои мысли Туполев. – Да, конечно, она вполне реализуема. Но вот хватит ли мощностей двигателей – тут большой вопрос. Знаешь, ты не против, если я поделюсь твоей идеей с одним человеком? Есть у меня знакомый инженер, который увлекается необычными конструкциями самолетов.