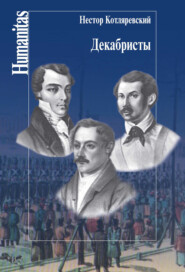По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Биографы поэта часто говорят об известном нам семейном разладе, о ранней смерти матери, о грустной затаенной привязанности ребенка к отцу, об опасной болезни Лермонтова в юности, о не совсем благоприятной его наружности, о его ранней любви, которая должна была разрешиться в тоскливое томление, – одним словом, о многих фактах, печаливших и сердивших поэта. Значения этих случайностей отрицать нельзя, они важны и могли иметь свое влияние на впечатлительную душу юноши, но они такое обыденное явление в жизни многих людей, что едва ли могут быть названы настоящей причиной того мрачного мировоззрения, которое открывается нам в юношеских стихах Лермонтова. И наконец, все эти огорчения искупались житейскими удобствами, заботливостью и теплой любовью, которой было окружено детство этого капризного ребенка.
Главный родник лермонтовского настроения заключается в самом душевном складе поэта, который дан был ему природой, предрасполагал его к ощущениям известного порядка, оберегал от других, и источников которого никто не уловит и не объяснит. Природа создала Лермонтова, по существу, меланхоликом и мечтателем, и мы можем только проследить, как на этот основной фон ложились временами более темные или более светлые краски.
Уже в юношеских стихах Лермонтова заметна одна черта, которая должна была усилить в нем его пристрастие к печальному. Это была ранняя склонность анализировать умом свои чувства и привычка восполнять мечтой недостаток живых впечатлений.
Лермонтов прожил свое детство и первые годы юности в кругу очень тесном. Интерес дня сосредоточивался на семейных мелочах; широкого общественного кругозора у людей, его окружавших, не было; вопросы литературы были вопросами книжными, а не живыми. Лермонтов читал, но не разговаривал с авторами. Читал он очень много; утверждают, что тринадцати лет от роду он знал уж почти всю русскую литературу и имел богатые сведения по литературам иностранным. Умственная жизнь юного поэта делилась, таким образом, на две неравные половины: с одной стороны, скудный и малоинтересный опыт житейский, с другой – богатый мир чувств и мыслей, вычитанных из книг. Строго разграничить эти два мира Лермонтов был, конечно, не в состоянии, но он был слишком большим мечтателем, чтобы не попытаться слить их: мелочи жизни он пригонял и приноравливал к тем сильным и картинно выраженным чувствам, с которыми он встречался в книгах. Отсюда вытекла его склонность преувеличивать собственные ощущения – привычка, не покидавшая его и в зрелые годы.
Наряду с этой привычкой восполнять мечтой недостаток житейского опыта и однообразие переживаемых ощущений поэт с самых юных лет сильно развивал в себе и другую склонность – расчленять разумом то, что он успевал схватить своим чувством. В сущности, разлад между действительностью и мечтой, разгоряченной чтением, был так велик, что многие неиспытанные чувства пришлось уяснять себе разумом; и многие испытанные ощущения добавлять тем же разумом, чтобы сделать их похожими на те, с которыми ум поэта успел уже освоиться по книгам. Эта способность оказала свое опасное влияние на развитие прирожденной поэту грусти.
Естественные и обыденные мысли и чувства, отданные во власть беспощадному анализу, могут привести человека к самым безотрадным и пессимистическим выводам, в особенности, если этот человек так юн, что не имеет за собой никакой жизненной опытности, никаких установившихся убеждений и, кроме того, по природе своей меланхолик. Так, например, чувство семейной горечи могло привести поэта к отрицанию всяких нравственных основ семейной жизни; чувство детской обманутой дружбы – к непризнанию в людях вообще каких бы то ни было благородных чувств: недовольство ребенком-женщиной – к целой теории женского коварства; смутное сомнение в своих силах – к бреду о собственном ничтожестве. Юношеские стихотворения Лермонтова дают нам разительный пример таких умозаключений, вытекавших из неизбежных мелких неудач и разочарований ежедневной жизни, замкнутой в себе и предоставленной на произвол логического анализа, лишенного всякой житейской опытности.
Меланхолический темперамент, однообразная и огражденная почти со всех сторон жизнь, раннее усиленное чтение, попытка привести это чтение в связь с тем, что удалось испытать на деле, и сильная склонность к рефлексии – вот те условия, при которых миросозерцание ребенка и юноши получило скорбную не по его летам окраску.
II
Прислушаемся к словам поэта. В своих юношеских стихах, в бесчисленных вариациях повторяет Лермонтов все одну и ту же песню об одиночестве, грусти и унынии. Иногда это простое признание в том, что «дух его страждет и грустит», что «уныния печать лежит на нем, потерявшем свои златые лета». «Отчаяния порыв» тогда охватывает его; он даже не может плакать и «страдает без всяких признаков страданья»; он – «воздушный одинокий царь» и «года, как сны, перед ним уходят».
Иногда это красивые поэтические сравнения. Поэт – как «постигнутый молнией лесной пень, который догорает, гаснет, теряет жизненный сок и не питает своих мертвых ветвей»; он «как пловец среди бури устремляет угасший взор на тучи и молчит, среди крика ужаса, моленья и скрипа снастей»:
…жалкий, грустный, я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.
[1830]
Его судьба, как «тот бледнеющий цветок, который в сырой тюрьме, между камней растет не для цветения, а для смерти». Он живет, как «камень меж камней, скупясь излить свои страдания»; он – «куст, растущий над морской бездной», «лист, оторванный грозой и плывущий по произволу странствующих вод». Зачем ему жизнь – ему, который «не создан для людей»?
Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело, как камень,
Но все под ним змея.
Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет.
Молю о счастии, бывало,
Дождался наконец,
И тягостно мне счастье стало
Как для царя венец.
И все мечты отвергнув снова,
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.
[1830]
Любовная связь между ним и людьми порвана. В его сердце нет сострадания:
Хоть бегут по струнам моим звуки веселья,
Они не от сердца бегут;
Но в сердце разбитом есть тайная келья,
Где черные мысли живут.
Слеза по щеке огневая катится,
Она не из сердца идет.
Что в сердце, обманутом жизнью, хранится,
То в нем и умрет.
Не смейте искать в сей груди сожаленья,
Питомцы надежд золотых;
Когда я свои презираю мученья,
Что мне до страданий чужих?
[1831]
Да и за что любить людей? Лучше забыть их. Постараться —
Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.
[1831]
И что такое жизнь? – чаша обмана:
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта.
И что она – не наша!
[1831]
Не лучше ли стать «уединенным жильцом шести досок» и протянуть дружественно руку смерти? «И ненавидя и любя, он был во всем обманут жизнью; пора уснуть, уснуть последним сном». Смерть – она не страшна; в ней покой и забвение, и прежде всего забвение людей:
Оборвана цепь жизни молодой,