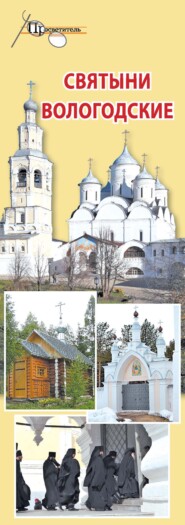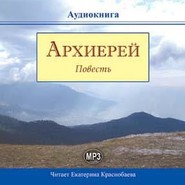По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сравнение Вольтера с Расином
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неизвестный автор
«Все упражняющиеся в Словесности, почитают трагедии Вольтеровы лучшею часто его сочинений. Едип, Брут, Заира, Меропа, Альзира, Смерть Цезаря, Магомет, Семирамида, Строma Китайский, Танкред, Орест: сии произведения, из которых не все имеют одинаковое достоинство, хотя все остались на сцене, равняются числом трагедиям Расина. Вольтер был гораздо плодовитее; в его пространном театре дурные сочинения занимают несравненно более месяца нежели хорошие, и если бы количество было уважаемо более нежели качество, то Расин не мог бы выдержать сравнения…»
Сравнение Вольтера с Расином
Все упражняющиеся в Словесности, почитают трагедии Вольтеровы лучшею часто его сочинений. Едип, Брут, Заира, Меропа, Альзира, Смерть Цезаря, Магомет, Семирамида, Строта Китайский, Танкред, Орест: сии произведения, из которых не все имеют одинаковое достоинство, хотя все остались на сцене, равняются числом трагедиям Расина. Вольтер был гораздо плодовитее; в его пространном театре дурные сочинения занимают несравненно более месяца нежели хорошие, и если бы количество было уважаемо более нежели качество, то Расин не мог бы выдержать сравнения. Четыре трагедии Вольтеровы, Заира, Меропа, Альзира и Магомет, сочинения в самом дел блистательнейшие из всего написанного Вольтером, имели удивительный успех в продолжении последних тридцати лет его жизни, он держал тогда в руках своих скипетр словесности; вся Европа преклоняла колена пред каждою его строкою: это можно назвать каким-то исступлением, которое трудно изъяснить для тех, кои не были сами свидетелями оного. В Фернейском замке своем Вольтер был неким патриархом философии, первосвященником нового закона, долженствовавшего преобразовать род человеческий, уничтожить все злоупотребления и совершенно разрушить суеверие! Калиф Багдадской, великий повелитель правоверных, никогда не имел большего уважения и почестей. Всякий писатель, печатавший книгу, должен был со льстивым посланием представить Вольтеру свое сочинение, и владыка словесности посылал ему грамоту на ум и даже на гений, состоящую в весьма учтивом письме, которое получивший хранит в своем архив, и до конца жизни перечитывал всякому, кто только хотел слушать. Когда рассказывают о подобных примерах лести, безрассудства и низости, прославивших сию эпоху философий и сумасбродства, то думается, будто говорят небылицу; но что же заключить бы надлежало, когда б я стал описывать со всею точностью историческою увенчание сего старца, дряхлого и не имевшего уже никаких чувствований кроме гордости? Начальники заговора предначертали весь порядок сего праздника, которой был торжеством не столько для самого Вольтера, сколько для его поклонников. Он стоял уже на краю могилы; но почести ему возданные озарили блеском славы всю его философию. Не надобно думать однако, будто бы значащие люди и большая половина общества брали какое-нибудь участие в сем постыдном деле. Париж, город обширной – с одной части его боготворят человека, которого в другой презирают! Стихотворцы, сочинители и все те, которые марают бумагу, почти все Академисты, толпа праздных людей, иностранцев, бродяг, молодых Сеидов, напоенных вольнодумством и буйственностью, почерпнутыми в сочинениях Вольтера, куча подмастерьев, писарей, поверенных, сидельцев – вот сборище, которое праздновало достопамятное сопричтение сего нового святого[1 - Читатель, которому не понравятся сии слова, употребленные здесь при осписании постыдного дела, или другие подлежащие осуждению, пусть заметит, что Мифология и древние предания не во всех случаях доставляют приличные названия, с точностью означающие фанатическое обожание, какое оказывали философам 28 столетия. Примеч. Сочинителя.] к лику праведных. – Легко понять можно, что сочинения, написанные им во время своего первосвященства, превозносимы были до небес наглым пронырством и хитростями многочисленной секты: некоторые трагедии, прежде освистанные, появились опять с честью, поддержаны будучи славою Вольтера; – и поет пожинал плоды энтузиазма, посеянного философом. Теперь, когда исчез уже дух партий, когда философия Вольтерова помрачены в общем мнений и когда опустошения ею причиненные поражают ужасом, настало время справедливости; теперь можно без предубеждения оценить сего знаменитого стихотворца и назначить место, которое он должен иметь в потомстве. Еще осталось несколько обожателей Вольтера, способных привести в заблуждение: восторги их тем более странны, что они принуждены, будучи прикрывать молчанием вредные Лжеумствования сочинителя Орлеанской Героини, по видимому хотят вознаградить чрезвычайными похвалами, приписываемыми хорошим его творениям, то насилие, которое делают себе, обвиняя его нелепости! Гражданин Лагарп в Курсе Словесности, где впрочем находят столь много прекрасных разборов и основательных наблюдений, странным образом обесславил вкус свои скучными и длинными замечаниями, достойными древних схолиастов Гомеровых. Его рассмотрения Вольтеровых трагедий суть не что иное как нелепые панигирики, в которых сочинитель с набожностью удивляется превосходным соображениям своего героя; а сии превосходные соображения представляют всегда почти дурные планы, худо связанные и невероятные. Пронырства обожателей Вольтеровых теперь не тайна; они были больше следствием расчетов собственного их самолюбия, нежели знаками чрезмерного усердия к славе других: люди сии чувствовали, что место, которое они займут в республике словесности, зависит от того, какое будет иметь в ней Вольтер. Если откроют весьма важные недостатки в лучших трагедиях его, если докажут, что он гораздо хуже хороших сочинений Расиновых; что станется с жалкими драмами наших новейших писателей, которые весьма далеки еще и от посредственных Вольтеровых творений? – И так они по расчету или собственных выгод соединяли силы свои, дабы вознести Вольтера как можно выше и возвышая его; они возносились сами. Из двоесмысленного и коварного слога похвал их не трудно понять, что они имели намерение утвердить, будто бы Вольтер есть первый Французский трагик, будто он превзошел Корнеля приятностью, правильностью и вкусом, Расина выразительностью и живостью картин театральных: таковы обыкновенно бывают заключения, следующие непосредственно из восторгов их всякой раз, когда они говорят о трагедиях Вольтера, и в этом Лагарпово намерение очень приметно. Сие-то внушило мне мысль собрать и беспристрастно сравнить главные черты, отличающие Расина и Вольтера, относительно же Корнеля, я уверен, что древняя слава и уважение, принадлежащие сему отцу нашего театра, довольно защищают его от нападений некоторых мелочных, дерзких критиков, подобных жителям Лилипутским, осаждающим гору человека. Мысль, равнять Вольтера с Расином, и даже предпочитать первого, несправедлива, соблазнительна и столько вредна успехам искусства, что недостало бы сил к достойному её осуждению для чести вкуса и словесности.
Расин и Вольтер в одних почти летах вступили на драматическое поприще, и первый опыт Волтера был гораздо блистательнее нежели Расина; оба они выбрали предметы из Греческого театра, оба имели прекрасные образцы: но Волтер пользовался более Софоклом, нежели Расин Еврипидом. Вольтеров Едип; при всей нелепости крайне смешного Эпизода (Филоктета) и сухости первого действия должен быть предпочтен Расиновым Братьям врагам, даже в отношении к слогу, хотя в сем первом произведении юности Расиновой и находят места, которые выше всего, что есть лучшее в Едипе Вольтеровом. При том же сочинитель Едипа обязан сим преимуществом не столько собственному гению и дарованиям, сколько веку своему и обстоятельствам. Расин написал Братьев врагов, когда язык не был еще совершенно обработан; он не имел других примеров кроме нескольких трагедий Корнелевых. Лучшие общества заражены еще были худым вкусом и романическим болтаньям; напротив, когда Вольтер, спустя почти сто лет после него, сочинял Эдипа – он имел Корнеля и Расина своими учителями; имел язык, обогащенный образцовыми произведениями великих писателей; жил посреди народа, коего вкус был образован примерами изящности. Вольтер поддерживаем был Софоклом, что он упал при первом своем парении, когда захотел лететь собственными крылами. Последовавшая за Эдипом Артемира справедливо освистана; – молодой сочинитель не только не получил никакого успеха, но, скажем просто – упал и ушибся; слог его был слаб, нестихотворен и неправилен, Вольтер явился не более как учеником посредственным. Но второе произведение Расина, Александр, показывало стихотворца; коего способности начинали развиваться; слог в нем исполнен блеска, доброгласия, красоты и силы: оно не было еще хорошею трагедиею, но всегда могло назваться сочинением хорошо написанным. Справедливо, что Расин тогда еще заблуждался, идучи по следам Корееля, между тем как должен был следовать собственному гению; однако ж ослепление его было не продолжительно – и далекое расстояние отделяющее Александра от Андромахи есть замечательнейшая эпоха в истории человеческого разума. Вольтер становился робким; мы видим его раздраженным противу бедной Артемиры, которую переделывает, переменя заглавие, и дает публике новой случай освистать себя: Марияна была еще несчастнее Артемиры, хотя несколько лучше написана. И так, Расин на 28 году Андромахою поставил себя между первейшими трагиками; а Вольер, будучи 30 лет, колеблется еще на сцене, не чувствует своих дарований, а пользуется, как ученик риторики, общими местами. Желая рассеять печаль свою, он поехал в Англию, не смотря, что сами Англичане тогда имели привычку ездить во Францию для такой же причины. Сие путешествие было для него весьма полезно; он познакомился с Английскою словесностью, и нашел в гении стихотворцев её способы заменить недостаток собственного гения; однако же нашел вместе и несовершенства, от которых не всегда умел остерегаться: у Англичан научился он выискивать, не сообразуясь с рассудком, разительные положения и романические сцены. Хотя никогда не было ни малейшего сходства между правлением республики Римской и Англии; на сем остров царствовал однако же какой-то дух гордости и независимости, способствующий наречию республиканскому; это без сомнения понудило Вольтера избрать предметом своим Бруиа. Не смею упрекать его, будто бы он в роле сего знаменитого Римлянина раболепно сообразовался с общенародным мнением; но признаюсь, имея хотя малые сведения в истории, не возможно предаться очарованию. Брут, по-видимому, был честолюбец, изгнавший Тарквиния не с тем намерением, дабы освободить Рим, но чтоб самому управлять оным; сему доказательством служит учрежденное им правление, которое было хотя аристократическое, но строжайшее всякой монархии. Чрезмерное честолюбие невнемлет гласу крови, и Бруту небольших стоило усилий обвинить сынов своих, хотевших умертвить его; отечество, т. е. сан и власть, были для него дороже детей. К тому же он не мог не осудить их; – если б и в наше время сын какого-нибудь судьи обличен был в заговоре; то отец не имел бы права простить его; он мог бы только отдать дело на рассмотрение другому и не присутствовать при исполнении казни; ибо отечество не требует, чтобы оскорбляли без нужды природу. В поступке Брута нет ничего героического; в нем видна, к гибели свободы и республики, одна варварская надутость. Если бы он вверил равному себе исполнение обязанности, которую природа возбраняла ему исполнить; то от того не сделался бы менее республиканцем. Вопреки всем нарядным речам, вопреки всему блеску краснословия, Брут скучен, холоден и даже ненавистен. Действие во всей трагедий худо связано; она хотя и заслужила рукоплескания молодых людей, которые любят блеск и гром стихов; но скоро была оставлена, потому что в ней одни только слова без всякой завязки, и что она основана на ложной мысли. За Брутом, следовала Еврипила, коей содержание Вольтер занял из Шекспирова Гамлета. Сия трагедия принята так дурно, что сочинитель принужден был взять ее с театра, переделал ее и потом выдал под другим именем, т. е. как из Артемиры выкроил Марияну, так точно из Еврпилилы, Семирамиду. – Не понимаю, почему сей стихотворец-философ непременно захотел вывести на сцену привидение! Явление сие тогда могло пугать одних детей и молодых девушек; а теперь оно заставляет всех смеяться.
И так в продолжении 14 лет, протекших со времени Едипа, сочинитель был счастлив только в первом опыт своем; из пяти его трагедий три освистаны, а одна принята холодно. Ход не быстрый, не торжественный! Вольтер шел к славе не исполинскими шагами; имея 36 лет от роду. следовательно при всей зрелости таланта, он еще ничего не произвел для потомства. – Мучимый неудачами и уничиженною гордостью, он чувствовал, что надобно было оставить многотрудный путь Корнеля и Расина, освободиться от стесняющих оков искусства и здравого смысла и броситься к романическим происшествиям. Следуя сему, написал он баснь, в которой, вопреки вероятию, собрал столько чудесностей, что наконец принудил рукоплескать себе. Шекспиров Отелло доставил ему развязку для сего творения, Баязет – различные подробности, многие Расиновы сцены – страстные движения и нежные чувства. Лагарп в своих замечаниях истощил все доказательства, дабы уверить, будто Заира трогает более всех трагедий, коих действия основаны на любви, «потому что жесточайшие мучения любви суть именно те, которыми Она сама себя угнетает.» Но если доказано уже, что мучения Оросмановы происходят не от любви, и что поведение его противно любви и внушениям сердца, то не следует ли из того, что завязка Заиры может трогать тех только, которые не размышляют об её нелепостях и о том, что участие ею производимое неодобряется разумом? Расин знал лучше характер любви, когда, говоря о Баязете, заставляет сказать Акомата:
«Je connois peu l'amour – mais j'ose te rеpondre.
Qu'il n'est pas condamnе, puisqu'on veut le confondre.»
Сими двумя стихами Расин осудил Заиру прежде еще нежели она существовала: любви и ревности свойственно тотчас обличать неверность; но когда ревнивой любовник в продолжении целых двух действий, имея несомнительное доказательство вероломства своей любовницы, не объявляет ей оного, хочет лучше умертвить ее, нежели объясниться; то я спрашиваю, есть ли такой любовник на свете? Это бессмысленный, ищущий своего несчастья, и который не должен приписывать бедствий своих любви. Сочинитель Курса словесности, говорит с восторгом благоговейного удивления о басне Заиры и почитает ее последним усилием человеческого разума, между тем как в самых пустых романах находят происшествия, которые трогают гораздо больше.
Не буду продолжать далее историй Вольтеровых трагедий: приступим прямо в сравнению сего стихотворца с Расином. – Планы Вольтеровы сделаны на удачу; Расиновы связаны по правилам глубокой мудрости. Расин обладал совершенно даром вымысла, составляющего, кажется, существеннейшее отличие гениев? Вольтер совсем не имел его. Заира, столько превозносимая, в самом дел есть чудовищный роман, в коем здравый разум беспрестанно оскорбляется. Только с помощью самых невероятных предположений он представляет блистательные сцены, ослепляющие обыкновенную толпу зрителей. Альзира, если отнять от нее разительную противоположность между Европейцами и дикими, будет самою простою баснею. Девушка, почитая любовника своего умершим, по слабости или по политике, выходит за другого; мертвец воскресает и не видит никакого средства возвратить себе любезную, кроме как убить её мужа; по счастливейшему в свет случаю, yмерщвленный супруг прощает убийцу и уступает ему жену свою! Подобное действие имеет очень великую нужду в общих местах, в извлечениях, в стихотворном пустословии. Совсем невозможно, чтобы гордый и завистливый испанец, едва только, соединившийся браком с Альзирою, оставил, ее наедине с полоненным Амеркаанцом; еще бессмысленнее, что сему дикому, в котором узнает своего, соперника, он, позволяет оскорблять себя ужаснейшим образом, и что Альзира в самую ночь брака имеет случай говорить с любовником! В сей трагедии все противно здравому рассудку, и выведенные лица способны только произносить одни ругательства. – Магомет велик в речах своих, но мало в поступках: сочинитель не мог дать силы действию; весь ум Магометов обращен в трагедий к тому, чтобы заставить (без всякой нужды) сына умертвить отца своего, и это делает Магомета столько ненавистным, что нужно необходимо прибегнуть к чуду, дабы вывести его из хлопот: сие чудо и несообразно и бессмысленно. Магомет, плененный молодою девушкой, издевающейся над ним, может быть забавным лицом в комедии. Всех лучше расположенная трагедия Вольтерова есть Меропа; план начертан был Маффеем, однако и при всем том сколько находим в ней романических приключений! какое легковерие и безрассудность! как ничтожны причины, кои заставили Меропу думать, будто Егист, умертвил её сына! какое изменение в характер Меропы, изображенной сперва кроткою, правосудною, человеколюбивою, а потом внезапно превратившуюся в дикого зверя, в людоеда жаждущего крови, в бесчувственную, которая желает сама исполнить должность палача! Чудесное появление Нарбаса, весьма кстати пришедший удержать руку, поднятую на заклание Егиста, может быть, позволительным только в сказках. Между тем сия трагедия, без всякого противоречия, есть образцовое произведение Вольтера.
Расинов разговор всегда удивительно точен: его лица всегда говорят только то, что должны сказать в положении, в каком находятся; язык их всегда сообразен с истиною и с природою: напротив Вольтер всегда говорит сам устами лиц действующих. У него все, до последней рабы, философствуют и произносят неоспоримые истины; Заира рассуждает о воспитании, Меропа и Альзира о самоубийстве, Иокаста поносит священнослужителей. Расин ниже в Ифигении, где можно бы так много говорить о фанатизме, не позволил себе ни одной мысли; единственная, несколько смелая черта у него обращена в чувство и прилична характеру лица:
Cet oracle est plus s?r que celui da Calchas.
Характеры Расиновы всегда совершенно сходны с Историею или Мифологическими баснями и выдержаны от начала до конца, благородство их нигде не возвышено слишком; Вольтеровы лица всегда выходят за пределы натуры. Здесь у него Султан столько же учтив как Французский придворный; и то до крайности: откровенен и великодушен, то скрытен до самого вероломства; там Испанец, гордый и ревнивый, терпеливо выслушивает ругательства соперника и уступает при смерти собственному убийце супругу свою; Магомет, без необходимости, уничижается перед Омаром, произносит постыдное признание, не может устоять противу прелестей девушки, в которую безрассудно влюбился; наконец Меропа, иногда чувствительна и добросердечна, иногда свирепа и кровожадна! В лицах Вольтеровых столько же разнообразного и противоположного, сколько было того и другого в его собственном характер и поведении.
Наконец, если угодно сравнить слог, то какая разность! Расинов образ выражения всегда приятен и стихотворен; в Вольтеровых трагедиях половина стихов не что иное как проза с рифмами. Расин выразителен и краток; Вольтер слаб и многословен; Расин всегда кажется выше правил стихосложения; Вольтер изобилует пустыми словами, поставленными только для рифм. Пылкое и обильное воображение Расиново умеет составлять новые обороты, выражения, счастливые перемещения слов, особенные и смелые тропы, всегда приличные; Вольтер иногда сухой, иногда надутой, иногда прозаический, иногда пишущий совершенно эпическим слогом удивляет мнимою быстротой, говоря самое обыкновенное; он часто ослепляет громом пышных слов и блеском мыслей, но только с первого взгляду, гармония его, подобно Лукановой и Клавдияновой пышна и блестяща, но утомительна; слог его невыдерживает разбора, а краски поражают невежд – строгие судьи находят их неверными и непрочными. Расин всегда умеет соединять искусство с природою, разум с гением; Вольтер, не обуздывая себя, предается врожденной пылкости, и гений его никогда не согласен с здравым рассудком. Расин есть любимый стихотворец рассмотрительных знатоков, людей с чувствительным сердцем, с основательным и точным разумом; Вольтер нравится молодым людям, женщинам и толпе таких зрителей, которые никогда не размышляют о своих чувствованиях и удовольствиях. Вольтер блестит на театре и помрачается в кабинете; лишенный театральных украшений и декламации, он представляется в жалкой наготе; простое и строгое чтение составляет торжество Расина; критик находит в нем всегда новые красоты; его трагедии подобны богатому руднику, из чего рассудок извлекает много, но которого никогда не истощает.
notes
Сноски
1
Читатель, которому не понравятся сии слова, употребленные здесь при осписании постыдного дела, или другие подлежащие осуждению, пусть заметит, что Мифология и древние предания не во всех случаях доставляют приличные названия, с точностью означающие фанатическое обожание, какое оказывали философам 28 столетия. Примеч. Сочинителя.