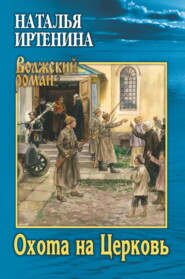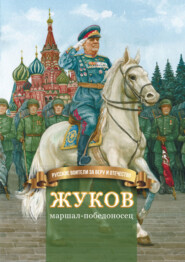По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нестор-летописец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так, говоришь, до Воиня не доплыли, – молвил Захарья. По напряженному лицу было видно: он силой утверждает себя в мысли, что его лодей больше нет.
– Уже за Росью весть донеслась, – закивал Балушка. – Гонцы переяславские оповещали. После того еще два дни плыли. Данило, шурин твой, не хотел назад поворачивать. Да лихую сторожу ты, хозяин, набрал. Иные сбегли, иные с Данилом засобачились.
– Что ж куманов проспали? – горько спросил Захарья. – Днем собачились от страха, а ночью дрыхли преспокойно?
Балушка исторг из себя долгое покаянное воздыхание, хотя он-то виноват ни в чем не был.
– Думали, на правый берег поганые не полезут. – Холоп посмотрел в глаза Захарье, распрямил спину, гордо сообщил: – Две лодьи мы спасти могли, хозяин! Почитай на середину реки успели увести. С огнем только совладать не сумели. Куманы нас запаленными стрелами достали. Потом уж в воде добивали. А кто и сам потонул.
– Своими глазами видел, как Даньшу убили?
– Видел, как налезли на него, ровно стая псов. Где ему с одной рукой рубиться против такой своры.
– Сам-то как спасся?
– Да уж не чаял. До утра мы втроем в воде за обгорелыми лодьями хоронились. С зарей на нас в тумане и выплыли тьмутараканцы. Послы из Киева к себе возвращались.
– Знаю, то бояре Глеба Святославича. Что ж, сразу они повернули, как вас на борт взяли, или еще кого найти пытались?
– Прошлись вдоль берега. – Балушка увел глаза в сторону. – Трупья там плавали, хозяин. Никого живого. Так и повернули назад. Не захотели куманов дразнить.
Тут Захарья увидел сына.
– А, ты… Где был? – равнодушно спросил он.
– На капище, – неожиданно для себя сказал Несда. Голос был хриплый, простуженный. – Там твой петух, отец.
– Петух? – безвольно пробормотал Захарья. – Не помог петух. И чернецы тоже… Иди в поварню, пусть тебя накормят.
Он встал. Растерянно огляделся вокруг.
– Надо пойти. Гавшу оповестить. Даньшиной вдове слово молвить. Убиваться станет баба…
Несда стянул с себя мокрую свиту, от которой шел пар.
– Идем-ка в сухое тебя облачу, – взял его за плечо кормилец.
Дочиста умытый и переодетый, Несда уплетал кашу с репой и мясом за большим столом в поварне. На том же столе рубила капусту Дарка. Молодая челядинка успела в своей недолгой жизни расцвести первой красой и тут же ее потерять. На щеке у девки багрянел рубец, похожий на куриную лапу. Год назад Захарья купил ее на торжище, когда Киев наполнился невольниками, приведенными из полоцкого града Менеска. Рана на лице молодки была тогда совсем свежей. Кто-то из кметей братьев Ярославичей оставил на ней свою метину и заодно задрал подол. К зиме живот у Дарки округлился, а к весне спал: девка от горя совсем почернела и скинула дите. Дядька Изот за ней самой ходил в ту пору как за дитем: отпаивал зельем, шептал сказки, уговаривал жить. Дарка выжила, поднялась на ноги и на кормильца с тех пор смотрела благодарно. А дядька Изот, напротив, стал усыхать. Жалел девку и так глубоко впустил ее в сердце, что теперь было не вынуть занозу.
– Товару-то сколько сгибло! – сетовала Дарка, ловко орудуя тесаком.
– Товар что, дело наживное, – сказал кормилец, тут же стоявший, будто решил не спускать теперь с чада глаз. – Мертвых не воротишь.
– Убитых не поднимешь, – согласилась девка. – Они только в памяти как живые. Родителев моих до последней черточки помню. И как они убитые лежали… – Дарка пересилила себя, отогнала слезы. – Пока наш хозяин будет товар заново наживать, чем ему свой дом содержать? Небось от половины ртов захочет избавиться. Холопьев на торг отведет. А там к какому еще хозяину попадешь?
Дядька Изот от такой мысли закаменел и не знал, что сказать.
– Сынок хозяйский подрос, в пестуне нужды боле нет, – гнула свое Дарка, принимаясь за вторую капустную голову. – Продаст он тебя, Изот, а?
Кормилец с жалким вопросом в глазах смотрел на Несду, будто искал у него защиты.
– Не продаст, – пообещал Несда, облизывая деревянную ложку. – У нас скоро новое дите народится.
– А если девка будет? А по миру если пойдете? – с внезапной злостью спросила челядинка.
– Дарка! – прикрикнул на нее дядька Изот. – Какой пес тебя укусил?
Девка сникла.
– Наелся? – Она забрала пустое блюдо.
Несда зачерпнул ковшом малиновый квас из бочонка, выпил и ушел с поварни. Поднялся наверх, в изложню, стал собирать суму в училище. За ним притопал кормилец, отягощенный думами.
– Дядька, женись на ней! Тогда если и на торг попадете, то вместе. Мужа с женой не продают раздельно.
Кормилец усиленно затряс головой.
– Не могу. Она молодая, еще может волю получить…
Несда знал о том: незамужняя раба обретала свободу после смерти хозяина, если прижила от него дитя. Он участливо поглядел на кормильца – скольких усилий требовалось ему сказать такое?
– Пойдем, дядька, в училище! – бодрясь, позвал Несда.
– Да какое ж сегодня ученье? – развел тот руками. – Нынче княжьи рати с ополчением в поход идут. Уже небось и выступают.
– А верно!
Несда схватил сумку и со всех ног побежал к софийскому двору. Митрополит Георгий сегодня должен осенять православное воинство крестом, благословляя на победу!
Дядька Изот, ворча, направился в конюшню седлать коней. Снова дите сбежало, забыв обо всех приличиях!
18
В окружении Всеволода Переяславского не было в тот день более мрачного человека, чем варяг Симон, пестун и дружинник князя с отроческих его лет.
Утром, едва посерело небо, на Лысую гору поскакал отряд во главе с варягом. Раздавленный горем боярин сам поднял окоченевшее тело сына и уложил на подвесные носилки, притороченные к седлам двух коней. После этого иссек мечом идола, но лишь затупил клинок. Кмети, поглядев на ярость боярина, отвели его в сторону, поднапряглись и своротили истукана. Сбросили с горы. Сжечь деревянного бога даже не пробовали – всю ночь лил дождь.
Тело отрока обмыли, обрядили и положили в подклети Десятинной церкви. Боярин наказал псаломщикам непрерывно читать над сыном молитвы до своего возвращения из похода. Поп, с которым он обговаривал это, промолчал, сочтя наказ помрачением духа. Кто знает, сколько продлится поход князей против половцев? Две седмицы, три, пять? Мертвое тело за то время сильно истлеет и станет зловонным. Семь дней, не больше, сказал себе поп. Далее отпеть, как положено, и похоронить.
– До моего возвращения, – хмуро повторил боярин, словно угадав мысли иерея. – Завтра придут, положат в другую домовину и зальют медом. Хоронить буду в Переяславле.
…Князь Всеволод Ярославич сперва говорил с сыном наедине. Позже, после церковной службы, позвал вернувшегося с Лысой горы варяга, и уже вдвоем терзали вопросами княжича. Мономах честно пытался вспомнить, видел ли он убийцу в лицо. Но если и видел, что с того – в памяти ничего не осталось, кроме стремительности его передвижений и короткого, будто охотничьего меча. Однако волхва мог разглядеть тот третий, что был с ними, а затем тоже пропал.
– Купецкий сын!
Княжич торопливо описал его: невысокий, прямые темные волосы, стриженные в круг, серые глаза, свита на бараньем меху. Грамотей, книжник, каких и среди попов немного. Имя же неизвестно, позабыл спросить.
– По училищам искать надо, – подвел черту князь Всеволод, – при церквах. С половцами отвоюем, тогда разошлю отроков. Сейчас не до того. Мужайся, Симон. Ополчись со всей твердостью на общего врага, это поможет тебе одолеть горе.
– Уже за Росью весть донеслась, – закивал Балушка. – Гонцы переяславские оповещали. После того еще два дни плыли. Данило, шурин твой, не хотел назад поворачивать. Да лихую сторожу ты, хозяин, набрал. Иные сбегли, иные с Данилом засобачились.
– Что ж куманов проспали? – горько спросил Захарья. – Днем собачились от страха, а ночью дрыхли преспокойно?
Балушка исторг из себя долгое покаянное воздыхание, хотя он-то виноват ни в чем не был.
– Думали, на правый берег поганые не полезут. – Холоп посмотрел в глаза Захарье, распрямил спину, гордо сообщил: – Две лодьи мы спасти могли, хозяин! Почитай на середину реки успели увести. С огнем только совладать не сумели. Куманы нас запаленными стрелами достали. Потом уж в воде добивали. А кто и сам потонул.
– Своими глазами видел, как Даньшу убили?
– Видел, как налезли на него, ровно стая псов. Где ему с одной рукой рубиться против такой своры.
– Сам-то как спасся?
– Да уж не чаял. До утра мы втроем в воде за обгорелыми лодьями хоронились. С зарей на нас в тумане и выплыли тьмутараканцы. Послы из Киева к себе возвращались.
– Знаю, то бояре Глеба Святославича. Что ж, сразу они повернули, как вас на борт взяли, или еще кого найти пытались?
– Прошлись вдоль берега. – Балушка увел глаза в сторону. – Трупья там плавали, хозяин. Никого живого. Так и повернули назад. Не захотели куманов дразнить.
Тут Захарья увидел сына.
– А, ты… Где был? – равнодушно спросил он.
– На капище, – неожиданно для себя сказал Несда. Голос был хриплый, простуженный. – Там твой петух, отец.
– Петух? – безвольно пробормотал Захарья. – Не помог петух. И чернецы тоже… Иди в поварню, пусть тебя накормят.
Он встал. Растерянно огляделся вокруг.
– Надо пойти. Гавшу оповестить. Даньшиной вдове слово молвить. Убиваться станет баба…
Несда стянул с себя мокрую свиту, от которой шел пар.
– Идем-ка в сухое тебя облачу, – взял его за плечо кормилец.
Дочиста умытый и переодетый, Несда уплетал кашу с репой и мясом за большим столом в поварне. На том же столе рубила капусту Дарка. Молодая челядинка успела в своей недолгой жизни расцвести первой красой и тут же ее потерять. На щеке у девки багрянел рубец, похожий на куриную лапу. Год назад Захарья купил ее на торжище, когда Киев наполнился невольниками, приведенными из полоцкого града Менеска. Рана на лице молодки была тогда совсем свежей. Кто-то из кметей братьев Ярославичей оставил на ней свою метину и заодно задрал подол. К зиме живот у Дарки округлился, а к весне спал: девка от горя совсем почернела и скинула дите. Дядька Изот за ней самой ходил в ту пору как за дитем: отпаивал зельем, шептал сказки, уговаривал жить. Дарка выжила, поднялась на ноги и на кормильца с тех пор смотрела благодарно. А дядька Изот, напротив, стал усыхать. Жалел девку и так глубоко впустил ее в сердце, что теперь было не вынуть занозу.
– Товару-то сколько сгибло! – сетовала Дарка, ловко орудуя тесаком.
– Товар что, дело наживное, – сказал кормилец, тут же стоявший, будто решил не спускать теперь с чада глаз. – Мертвых не воротишь.
– Убитых не поднимешь, – согласилась девка. – Они только в памяти как живые. Родителев моих до последней черточки помню. И как они убитые лежали… – Дарка пересилила себя, отогнала слезы. – Пока наш хозяин будет товар заново наживать, чем ему свой дом содержать? Небось от половины ртов захочет избавиться. Холопьев на торг отведет. А там к какому еще хозяину попадешь?
Дядька Изот от такой мысли закаменел и не знал, что сказать.
– Сынок хозяйский подрос, в пестуне нужды боле нет, – гнула свое Дарка, принимаясь за вторую капустную голову. – Продаст он тебя, Изот, а?
Кормилец с жалким вопросом в глазах смотрел на Несду, будто искал у него защиты.
– Не продаст, – пообещал Несда, облизывая деревянную ложку. – У нас скоро новое дите народится.
– А если девка будет? А по миру если пойдете? – с внезапной злостью спросила челядинка.
– Дарка! – прикрикнул на нее дядька Изот. – Какой пес тебя укусил?
Девка сникла.
– Наелся? – Она забрала пустое блюдо.
Несда зачерпнул ковшом малиновый квас из бочонка, выпил и ушел с поварни. Поднялся наверх, в изложню, стал собирать суму в училище. За ним притопал кормилец, отягощенный думами.
– Дядька, женись на ней! Тогда если и на торг попадете, то вместе. Мужа с женой не продают раздельно.
Кормилец усиленно затряс головой.
– Не могу. Она молодая, еще может волю получить…
Несда знал о том: незамужняя раба обретала свободу после смерти хозяина, если прижила от него дитя. Он участливо поглядел на кормильца – скольких усилий требовалось ему сказать такое?
– Пойдем, дядька, в училище! – бодрясь, позвал Несда.
– Да какое ж сегодня ученье? – развел тот руками. – Нынче княжьи рати с ополчением в поход идут. Уже небось и выступают.
– А верно!
Несда схватил сумку и со всех ног побежал к софийскому двору. Митрополит Георгий сегодня должен осенять православное воинство крестом, благословляя на победу!
Дядька Изот, ворча, направился в конюшню седлать коней. Снова дите сбежало, забыв обо всех приличиях!
18
В окружении Всеволода Переяславского не было в тот день более мрачного человека, чем варяг Симон, пестун и дружинник князя с отроческих его лет.
Утром, едва посерело небо, на Лысую гору поскакал отряд во главе с варягом. Раздавленный горем боярин сам поднял окоченевшее тело сына и уложил на подвесные носилки, притороченные к седлам двух коней. После этого иссек мечом идола, но лишь затупил клинок. Кмети, поглядев на ярость боярина, отвели его в сторону, поднапряглись и своротили истукана. Сбросили с горы. Сжечь деревянного бога даже не пробовали – всю ночь лил дождь.
Тело отрока обмыли, обрядили и положили в подклети Десятинной церкви. Боярин наказал псаломщикам непрерывно читать над сыном молитвы до своего возвращения из похода. Поп, с которым он обговаривал это, промолчал, сочтя наказ помрачением духа. Кто знает, сколько продлится поход князей против половцев? Две седмицы, три, пять? Мертвое тело за то время сильно истлеет и станет зловонным. Семь дней, не больше, сказал себе поп. Далее отпеть, как положено, и похоронить.
– До моего возвращения, – хмуро повторил боярин, словно угадав мысли иерея. – Завтра придут, положат в другую домовину и зальют медом. Хоронить буду в Переяславле.
…Князь Всеволод Ярославич сперва говорил с сыном наедине. Позже, после церковной службы, позвал вернувшегося с Лысой горы варяга, и уже вдвоем терзали вопросами княжича. Мономах честно пытался вспомнить, видел ли он убийцу в лицо. Но если и видел, что с того – в памяти ничего не осталось, кроме стремительности его передвижений и короткого, будто охотничьего меча. Однако волхва мог разглядеть тот третий, что был с ними, а затем тоже пропал.
– Купецкий сын!
Княжич торопливо описал его: невысокий, прямые темные волосы, стриженные в круг, серые глаза, свита на бараньем меху. Грамотей, книжник, каких и среди попов немного. Имя же неизвестно, позабыл спросить.
– По училищам искать надо, – подвел черту князь Всеволод, – при церквах. С половцами отвоюем, тогда разошлю отроков. Сейчас не до того. Мужайся, Симон. Ополчись со всей твердостью на общего врага, это поможет тебе одолеть горе.