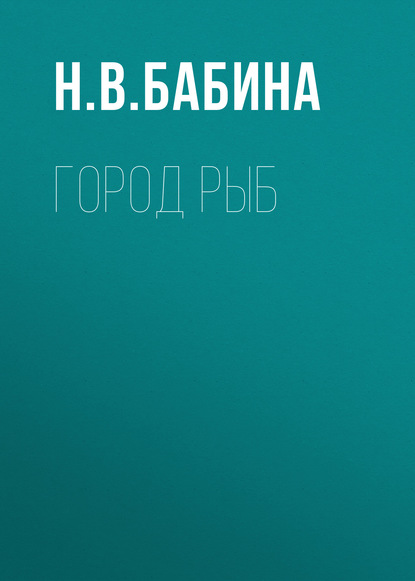По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Город рыб
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Такой вариант вызвал у меня прилив энтузиазма. Он показался мне идеальным способом постепенно вернуться в профессию. (Хотя если подумать, это бред сивой кобылы в чистом виде: в возрасте, когда другие готовятся к пенсии, я собиралась начать трудовую деятельность по специальности! Но на то были веские причины: я искала работу, потому что мне надо было почувствовать себя независимой. Независимой мне нужно было почувствовать себя потому, что мой муж Антось нашел мне молодую замену, и мне об этом донесла анонимка по телефону. А изменил мне муж потому, что больше не мог выносить моей никчемности и хотел нормальной жизни…)
В архиве меня нагрузили кучей ксерокопий старых нечытэльных, говоря по-польски, актов. Я листала обстоятельно сшитые в папки ксерокопии, и мой энтузиазм таял. Я абсолютно ничего не могла разобрать! Вереницы и вереницы букв, каллиграфических и не очень, кириллица и латинка… Все-таки уж больно давно я учила палеографию в университете и с тех пор не практиковалась. А в Добратичах на меня навалилась куча хлопот и обязанностей, потому папки так и лежали нераскрытыми до того момента, как к столу подошла Ульянка.
Сама не ожидая от себя, я выпалила:
– Слушайте, а если ларец этот так где-то и лежит? А что, если его поискать? Ульянка, сколько сейчас могут стоить драгоценности работы семнадцатого столетия?
Ульянка пожала плечами.
– Зависит от того, из чего и как они сделаны. Если, к примеру, серебряные, то… ну, не знаю, может, примерно по несколько десятков-сотен долларов каждый… А если золотые, хорошей, качественной работы, с алмазами и бриллиантами, то могут и очень дорого стоить… Если имеют историческую и художественную ценность – то вообще неизвестно сколько, даже до миллионов… Судя по тому, что этот пан Трызна их искал с риском для жизни, они были достаточно дорогими для своего времени, не бижутерия… Но выбросьте это из головы, – решительно отрубила сестра, заметив, что парни, как и я, внимательно ее слушают. – Искать клад – это несерьезно.
– Почему несерьезно? – вскинулась я. – Потому что это я предложила?
– Несколько сотен долларов каждый… – задумчиво повторил Толик, почесав красивую бровь. – А действительно, почему несерьезно?
– Знаете, дорогие мои, вообще-то кладов как таковых в земле много, это дело известное. Как сказал Валик, люди здесь жили и деньги зарабатывали… А поскольку для прошлых времен закопать деньги в землю было так же естественно, как нам сегодня открыть счет в банке, и поскольку на каждого живого приходится множество уже умерших, то понятно, что и кладов должно приходиться немало, однако… Клады находят либо случайно, либо в результате старательного сбора и анализа информации. В данном случае информации явно маловато. Ну что мы знаем: ювелир спрятал свой ларец где-то на Буге, возможно, в окрестностях Костомолот, но эти окрестности могут быть достаточно протяженными, причем по обоим берегам реки, а берега эти нам недоступны… Костомолоты ведь на польской стороне… Все это слишком неопределенно. И потом, вы же видите, ларец уже искали: и сын ювелира, и этот Костомлоцкий наверняка, раз цидулку забрал… Да и до кладов ли нам? Мне так наверняка будет не до того, – Ульянка встала и снова подошла к столу. – Давайте лучше выпьем. Кажется, на поминках принято пить трижды, а мы ведь на поминках.
Первое знакомство с Куколем Иваном Митричем
Следующим утром больше всего мне хотелось выспаться. Поспать. Вот вытянуться и спать, спать, спать. Дать расслабиться натянутым нервам. Дать покой телу. Однако гвардия во дворе потребовала своего уже на рассвете; я со стоном оторвала тело от матраса. Куры вылетали из курятника, как ненормальные; гуси бешено гоготали; утки презрительно крякали; кролики возмущались молча, выразительно шмыгая носами. А когда я, еще в полусне, открыла хлев, свинья подняла такой пронзительный визг, что я была готова прямо на месте убить ее собственными руками. Убить… Это слово воткнуло меня в реальность, как в розетку. В доме произошло убийство, непонятное, однако явное.
Бабушки больше нет.
– Все усыпано яблоками, – Ульянка притащила две огромные корзины белого налива и вывалила в углу веранды. – Четыре дня не собирали, земля белая.
Я принялась нарезать бураки, засыпала в чан крупу, добавила туда мелкую картошку и поставила варево на газ.
– Чего это ты так рано вскочила? Я так, если бы могла, не вставала бы вовсе. И надо было живность выпустить, раз уж встала.
– Не думала, что застряну в огороде, – ответила Уля. – Может, кофе?
– Давай. Все равно спать уже не лягу.
– А потом надо яблоками заняться. Не пропадать же им. Тем более на чердаке сейчас такая жара, что в момент высохнут. Давай-ка я займусь завтраком, а ты, может, пойди умойся, а то смотреть страшно. Залезь потом, достань с чердака старые покрывала, на которых бабушка сушила яблоки, – крикнула она мне вслед, когда я уже шла к рукомойнику.
Рукомойник, к которому прикасались бабушкины руки. Ее лавка. Корни деревьев на тропинках, по которым она ходила. «Заростуть мои чорны стэжки»[20 - Зарастут мои черные тропинки (местный говор).], – говорила она. Неужели так и не будет дано мне уразуметь, зачем мы топчем свои черные тропинки?
Запахло кофе – Ульяна сварила. Новую пачку привезла из Бреста Зарницкая.
А на чердаке пахло стариной. Паутина и пыль. По углам громоздились лахи[21 - Тряпки, одежда (местный говор).] – те, которые бабушка не сочла нужным сжигать. Тут были фундаментальные кросна[22 - Ткацкий станок (местный говор).], несколько старых пальто, тоненькая каета[23 - Портфель (местный говор).], с которой ходили в школу, должно быть, еще в 20-е годы… Я перебирала старые вещи и невольно продолжала думать о бабушке. Она была человеком ярким, неординарным, очень одаренным… У таких людей всегда находятся враги… Ну и что, что ей было почти сто, что жила она, не выезжая из Добратичей… Здесь тоже кипят страсти… Нет, видит Бог, это даже более реально, чем допустить, что отрава в кофе предназначалась мне. Господи, я-то кому могу быть нужна?! Или, точнее, кому до такой степени мешаю? Смешно! Конечно, я бестолковая, но что никому не перешла дорожки – это точно. Еще более глупо допустить, что кто-то желает смерти сестре. Вот у кого не может быть не то что врагов, но даже недоброжелателей… Ее любят все. Сей человек, человек со стержнем, человек-плечо, на которое всегда можно опереться, и это знает каждый, кто с ней знаком. Человек-камертон, по которому проверяют точность звучания нот.
Размышляя так и рассматривая старые вещи, я наткнулась на запыленную бутыль гамзу… В ту пору, когда найти бутылку, равно как обертку от конфет или осколок фарфорового изолятора, или кусочек ткани, было роскошью и удачей, мы всегда брали ее в поле: ее удобно носить – бутыль оплетена проволокой, и из проволоки же сделана ручка-петля. Сохранилась даже пробка – какая-то туго свернутая бумажка. Я вынула ее. Под пальцами развернулся пожелтевший тетрадный листок, на котором в полумраке виднелся рисунок. Я поднесла бумагу к окошку. Это мой детский рисунок? Ульянин? Нет. Так рисовали в средние века: хорошо прорисованы детали, но линии немного косые; множество точных подробностей, но пропорции нарушены; рисовал наверняка взрослый человек, вероятно, даже способный, но никогда не обучавшийся рисованию, который и карандаш-то редко в руках держал… На листке молодой человек, коренастый, с носом, в кепке. Прорисован воротник рубахи, пуговицы, набойки на каблуках ботинок. Руки толстые, сильные. Очень похожий человек и на обратной стороне. Я присмотрелась: почти выцветшая подпись, несколько раз повторено имя: Stepan.
А ниже польскими буквами, но украинскими словами:
Sonce nyzenko
Pryhodz, serdenko
Tody pryjdesz
Jak Lalku prozenesz[24 - Сонце низенько,Приходи, сердце мое.Тогда придешь,Когда Ляльку прогонишь (местный говор).].
Писала наша баба, догадалась я. Баба, закончившая польскую школу, и писать должна была по-польски. Хотя и родными, украинскими словами. А нарисованный, значит, тот самый Стэпан. Калёниха, наше добратинское информационное агентство и по совместительству архив, рассказала когда-то нам с сестрой историю любви и предательства, героями которой были наша тогда еще молоденькая незамужняя баба, такая же молоденькая Лялька и вот этот красавчик Степан. По словам Калёнихи, Степан и наша баба любили друг друга и хотели побратыся[25 - Пожениться (местный говор).], но потом Лялька отбила Степана – просто ради интереса, он был у нее осэмнаццатый[26 - Восемнадцатый (местный говор).]. Вскоре Лялька его бросила, и он попробовал вернуться к своей Мокринке, но она его не приняла, вышла замуж за нашего деда Василя, однако Ляльку так и не простила. Действительно, сколько помню, они всегда ругались и ссорились, наша баба и баба Лялька… Баба Лялька сейчас безногая, в отличие от нашей бабы, она и в старости сохранила миловидность: у нее мягкие карие глаза и морщины, которые Гоголь назвал бы гармоничными. Но за миловидностью и мягкостью кроется характер не менее сильный, чем у нашей ведьмы.
– Ну и что ты ей скажешь? – пожала плечами Ульянка, когда я показала ей найденную на чердаке бумажку и предложила сходить к бабе Ляльке. – Не вы ли, бабуля Лялька, отравили нашу бабу за то, что восемьдесят лет назад не поделили кавалера? Нет, ерунда, песня про Грыця какая-то…
– Грыця, не Грыця, но ведь надо, как говорит Толик, с чего-то начать! Может, отыщем какую-нибудь зацепку, хоть какую-нибудь! Или так и будем здесь сидеть и ждать в бездействии? Я хочу знать, кто это сделал и зачем! И потом, ты не боишься, что еще где-нибудь вдруг обнаружится яд (только, чего доброго, слишком поздно), а то еще какая беда случится?
Ульяна вздохнула.
– Ну ладно, сходим. Только давай сначала с яблоками разберемся. Но она даже не может ходить, баба Лялька! Нет, это ахинея, дурацкая мысль!
Разбирательство с яблоками затянулось – имя им было легион, а Уле непременно нужно было переработать все. Потом снова понадобилось кормить живность, приводить в порядок хлев – свинья нарыла там целые горы… Словом, к бабе Ляльке выбрались лишь под вечер.
Дом Ляльки недалеко от нашего, с другой стороны холма. Чтобы пройти к ней, надо миновать имение, приобретенное недавно у потомков старого Дениса неким венерологом из города. Теперь здесь дым коромыслом: старый дом обложили кирпичом, надстроили второй этаж, пристроили обязательную баню; во дворе красуется бассейн, из которого бьет фонтан. Здесь бегают дети, пахнет шашлыками, стол ломится от еды и бутылок, а ветер треплет над ним яркий тент. Мы прошли вдоль забора из рабицы. Женщины с гладкими ляжками загорали в шезлонгах, а мужчины, знающие, зачем живут, пили пиво. На кирпичной стене висел горшок с малиновой сурфинией – последний писк моды.
Лялькин дом стоит как раз напротив этого оазиса правильной жизни. Кирпичи на печной трубе осыпались: как они, Ляльки, топят печку? Во дворе валяется сухая ужиная шкурка; черное деревянное колесо прорастает полынью возле колодца. Старая Лялька и ее дочь, тоже Лялька, обедали: обе сидели на завалинке, а на блюдце между ними – кружочки сдобренного подсолнечным маслом лука, еще был хлеб. Яства, которые мы прихватили с собой и которые стали официальным поводом для нашего визита, – принесли, мол, бабе, которая из-за безногости сама не смогла прийти, с поминок кутьи, а вместе с кутьей еще и кой-каких деликатесов, – были здесь явно кстати.
Баба Лялька встретила нас радушно и учтиво; она всех и всегда так встречает. Она поклонилась нам со своей завалинки, поблагодарила, усадила подле себя и стала расспрашивать, но вскоре я заметила, что нам лучше уйти: они обе, и Лялька старая, и Лялька молодая, были, попросту говоря, очень голодны. Голод сопровождал их всегда, как истинных добратинцев, и голод был силен. Однако добратинский кодекс хороших манер не позволяет показывать свой голод, не позволяет есть в присутствии чужих.
Лялька старая владела собой лучше, а вот Лялька молодая с простодушием сумасшедшей не сводила глаз с тарелок с котлетками и студнем. Она, действительно, сумасшедшая. Наша с Улей ровесница; зимой и летом бродит она по нашему лесу от сосны к сосне. В шерстяном или штапельном платке, с засохшими пятнами крови на сорочке, выглядывающей из-под юбки. Лицо то густо намазано свеклой, то обсыпано ярко-розовой старой-престарой пудрой из довоенных запасов бабы Ляльки. Она все время сосредоточенно о чем-то думает, но произносит, о чем бы ее не спросили, всегда только две фразы: «В прошлое воскресенье мы были в церкви. И в позапрошлое тоже». Нет, кое-что она понимает, помогает матери по хозяйству: копает и полет огород, кормит кур… Но ей надо говорить. Сама бы она и ведра воды не догадалась достать. Других детей, кроме этой нэбоги[27 - Несчастной (местный говор).], у бабы Ляльки уже нет.
Ульянка втихаря пихнула меня локтем в пузо, и я уже собралась вставать и прощаться, как вдруг мизансцена изменилась.
Черная дорогущая машина – это был мерседес, – блистая лаком и многочисленными фарами, подкатила почти бесшумно и остановилась. Открылась задняя дверца, и на пыльную, выжженную безжалостным солнцем траву Лялькиного подворья ступила безукоризненная, идеально чистая лакированная туфля, сверкнула шелковая штанина – вышел мужчина.
Сколько всего мне предстояло пережить из-за него! Господь Бог наверняка поместит нас с ним где-то рядом – после смерти, я имею в виду. Важнейшую роль сыграл в моей жизни этот человек.
Красив он был, что и говорить. Очень красив. Строгие мужские черты, смуглая, как бы опаленная горячим ветром кожа. Лицо очень плавно переходит в шею, а сильное тело выглядит немного грузноватым из-за полноты. Впрочем, полнота не чрезмерная, видно, что ее держат в запланированных рамках.
– Добрый день, – спокойно поздоровался полный человек со смугловатым лицом.
– Добрый, – несколько настороженно ответила Ульянка.
– Меня-а за-авут Иван Митрич, – незнакомец одни гласные глотал, а другие немного растягивал. – А вы, надо думать, Ульяна и Алла? У меня к вам дело. Удачно, что вы тут… Я заезжал сейчас к вам, – он повел рукою в сторону нашего дома. – Ну что, бабшка, на-адумлась? – обратился он к Ляльке.
– А мий ты сынку! То ж я ниц нэ знаю! Я ж стара, я вжэ тут помыраты буду,[28 - Сыночек мой! Я ведь ничего не знаю! Ой, я лучше тут помирать буду! (местный говор).] – она плаксиво скривилась.
– Баашка, я же тебе все объяснял! От ведь старуха, толкую-толкую ей, да толку чуть, – Иван Митрич повернулся к нам. – Тяжко со стариками. Хочешь им добра, стараешься, как лучше, а они ерепенятся, ей-богу! Вот люди, – он кивнул на обитателей соседнего двора, которые все как один, повернувшись, пристально смотрели в нашу сторону, – нормальные, вменяемые, с ними мы сразу договорились.
Венеролог, все это время следивший за нами со своего двора, видно, принял жест Ивана Митрича как приглашение подойти и заспешил к нам.
– Дело вот в чем: я покупаю всю эту землю, – голос Митрича зазвучал по-деловому, и он широко повел рукою. – С холмом, криницами, дубравой. Плачу хорошую цену. Иди, я сейчас приду, – отослал он назад венеролога, и тот послушно повернул. – Я построю здесь дом отдыха. Какая будет цена за ваш участок с домом?
– Не будет даже разговора ни о какой цене. Наш дом не продается, – удивленно ответила Ульянка.
– А ты что скажешь? – спросил он меня.
– Попрошу обращаться ко мне на «вы».