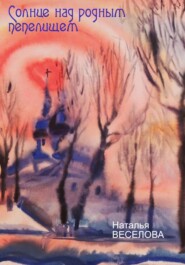По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путем Ирбиса
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наталья Александровна Веселова
Нина тяжело больна, исход болезни под большим вопросом. Может быть, жизнь прошла напрасно? Нет – ведь сквозь нее прошла единственная, пусть и неразделенная любовь. Неважно, что тот, кого она любит, недостоин ее… Но, возможно, можно найти и другой смысл жизни, а можно и задуматься о том, что стоит за ее гранью…А между тем родители Нины живут очень далеко от нее, в маленьком домике у подножия высокой горы и радуются маленьким, но очень нужным посылкам от своей дочки. И у них, оказывается, есть свой собственный ирбис…
Наталья Веселова
Путем Ирбиса
Пусть на северном склоне – зато, вроде, рядышком,
смерть проста и легка, приручая всерьёз –
там, на солнышке, проще, наверно – есть батюшка…
А у нас всё причастье – снежинки из слёз.
А. Маничев
Туманный склон полого уходит вверх. Как выглядит вершина горы, спрятавшаяся в мнимо прозрачной мгле, точно не знает никто из тех, кто с надеждой и страхом устремляет взгляд к верхней доступной его зрению точке, – и у каждого разные предположения. Кто-то рассказывает о серебристом мерцании, исполненном снующих теней, другой описывает заросли эдельвейсов, покрывающих, по его мнению, светлую поляну на высоком уступе, третий уверяет, что ясно различил неописуемо красивых златорунных горных животных с грациозно изогнутыми рогами, непринужденно перелетающих вдоль отвесных участков горы с одного невидимого каменного карниза на другой – без опаски сорваться, без красования перед изумленным зрителем – с поистине ангельским бесстрастием… Что там на самом деле скрывается? Почему на первый взгляд путешествие вверх по пологому склону представляется сплошным удовольствием, а на деле выматывает дерзкого ходока так, что он непременно возвращается с четвертьдороги, чувствуя себя шелудивым псом, сбежавшим со двора от хозяина и избитого палкой за ослушание?
Иногда кажется, что туман над вершиной почти готов рассеяться, – во всяком случае, вспыхивает за ним теплый, несказанно белый свет, к которому устремлено все живое на этой горе – и люди, и вся остальная одушевленная тварь, включая сюда не только меховых, пернатых и чешуйчатых, но и трепещущие травы, и поющие воды ручьев. Но таинственная дымка окончательно никогда не покидает вершину – жители и хотят этого, и боятся: вдруг свет окажется слишком ярким и жгучим – таким, что спалит их просторные дома, их пышные деревья со зрелыми плодами, да и сами бесстыдно воздетые глаза выжжет напрочь, оставив непочтительных поселенцев в вечной тьме?
Но если не задаваться всеми этими странными вопросами – а здесь считается дурным тоном ими задаваться – то жизнь на некрутом склоне, который почему-то все зовут «северным», вполне сносная – настолько, что большинство другой и не желало бы. Множество премилых внешне и вполне крепких, светлых и добротных, как в глянцевых журналах о загородной недвижимости, теремов, домов и домиков разбросано по широким уютным уступам – некоторые из них окружены яркими благоухающими цветниками, другие стоят в тенистых садах с резными беседками и лопотливыми фонтанчиками, но есть и такие, что бесстрашно глядят широкими окнами на отвесный обрыв, под которым тоже всегда стоит туман, – только не радостный и многообещающий, как наверху, а неприятно темный, бурый и сырой. Те, кто поселился здесь не сразу, а пришел, преодолев долгий и тяжкий путь от самого подножия, никогда не рассказывают о том, что видели внизу, – да и сами стараются поскорей забыть…
Соне не совсем повезло: Сергей, мужчина, который пробыл ее мужем целых сорок шесть лет, пролетевших незаметно, как послеобеденная дрема, – ее любимый Сережа именно из тех людей, кто вопросами – задается. И даже предпринимает попытки скалолазания – безуспешные, разумеется, попытки. Более того, он повторяет их всякий раз, когда от дочки приходит посылка, – обычно она посылает своим старикам пышный сдобный пирог, который они честно делят пополам, – и Соня после этого радостно летит на церковную службу, а Сергей, преисполнившись новых сил и надежд, собирается в путь. Раньше Соня деятельно отговаривала его, боясь, что он найдет себе пристанище где-то выше, поселится там с кем-то другим – мало ли добрых людей, близких или просто знакомых, можно найти на трудных горных путях! – и к ней не вернется. Но теперь-то женщина знает точно, что место этого неугомонного мужчины и раньше было, и сейчас есть – рядом с ней. И он всегда будет возвращаться. И лежать – обиженным и измученным, со сбитыми в кровь ногами, полуслепым после столкновения с усиливающимся по мере подъема невыносимым светом, в бессчетный раз слушая ее неловкие утешения… Как сейчас.
– Каждому свое. Ну, есть уже у нас этот дом – и слава Богу! Чем он тебе плох? Или ты просто от меня убежать хочешь? Думаешь, это я тебя здесь держу, а не будь меня – ты бы с легкостью и на самой вершине обосновался?
– Глупости говоришь. Ты и сама прекрасно понимаешь, что у нас никого ближе друг друга нет. Если я найду место для жизни где-то повыше, то и ты туда доберешься. Не сможешь не добраться.
– Но я не хочу. Мне и здесь хорошо, а там неуютно. Десять шагов вверх пройду – и уже ноги ломит. Ты ведь знаешь, я с трудом даже к Маше ходила, хотя они живут, считай, на одной прямой с нами, окна в окна. Но, видать, на одной – да не совсем: все-таки чуть-чуть, а в гору дорога идет. Я считала: от наших ворот до их всего сто семьдесят четыре шага – так бывало, пока дойду, все равно три раза отдохнуть сажусь, и после каждого привала кажется, что больше не встану. Да и там у них все время неловко как-то, места себе не могу найти, разговор не клеится, и так тревожно, так светло во всех комнатах, что глаза слезятся… Прошу ее – мол, лучше ты к нам приходи, под горку-то, чай, легче бежать! А она мне – темно, мол, у вас и холодно. Вот и договорились встречаться на полпути – в той беседке с розами и фонтаном. И все равно обеим неважно там. А что неважно – и не поймешь… И не видеться не можем: с детского садика всю жизнь продружили! Только всего вместе пережито…
– А ей дети посылки шлют? Смотрю, пояс у нее такой же, как наши, – помнишь, Ниночка нам их еще в самом начале прислала? Мягкий какой, яркий – и не линяет со временем… Дай, я твой поглажу… Да, и мой такой же, вот, потрогай… А Маше твоей тоже дети прислали?
– Нет, это сестра ее младшая… Тоже в самом начале. И посылки долго слала – маленькие такие каравайчики – а теперь… Трудно ей, наверное, старая ведь уже – под девяносто, должно быть, подвалило. Уточню у Машки в следующий раз. А про детей ее лучше и не спрашивай. Беспутные оба выросли. Она даже не знает, где они сейчас.
– Да что уж теперь. Хорошо, хоть наша Ниночка… Как думаешь, она здесь, с нами, поселится?
– Ха, размечтался, старый… Но к нам она точно сразу зайдет, как приедет. И кота своего заберет. Вон, смотри – ждет ее, все ушами прядает, не идет ли хозяйка… Барсик, Нина! Где Нина? Гляди-ка, вскочил и хвост трубой… Нету еще твоей Нины… Не приехала пока…
– Ну, зачем ты, Соня, животное травмируешь? Видишь, как он обиженно смотрит… И его, между прочим, не Барсик зовут, а…
– Ах, Сережа, какая разница! Все коты – Барсики. Скажите, пожалуйста, – обиделся он… Ну, и иди себе в сад, усатый-полосатый, выглядывай свою Нину.
– Он не полосатый. Зачем ты так про абиссинца? Он светло-коричневый, с переливами – просто хищник… И эти глаза… Как у египетской царицы – длинные и зеленые. Никогда не думал, что могу полюбить кота.
– А помнишь, когда Ниночка только принесла его домой – у однокурсницы оказалась аллергия на кошек, и нам пришлось его взять – как ты был против! «Убери от меня своего кота! Я к нему равнодушен!». Что, скажешь, не твои слова? Но он все равно тебя покорил своей красотой и обхождением… Однажды захожу я в гостиную – там, в Петербурге, – а ты сидишь в кресле – умиротворенный такой – и гладишь кота, который мурлычет у тебя на коленях, и даже чешешь ему за ушами. Но только ты увидел меня – сразу отдернул руки и спрятал их за спину, – как мальчишка, которого застукали за тайным поеданием варенья… И еще лицо сделал такое недовольное – мол, вот, вспрыгнуло на меня противное животное, и теперь не знаю, как его согнать… Я пощадила твою гордость и не сказала, что видела.
– Зато сейчас сказала. Впрочем, это уже не имеет значения: кот с нами, ждет Нину и зовут его…
– А можно, я тебе признаюсь в чем-то ужасном? Я сейчас вспомнила, что так тебе про это и не рассказала тогда.
– Соня! Неужели ты мне все-таки когда-нибудь изменила?.. Нет, я ничего, я просто так спросил. Признавайся, конечно, если хочешь…
– У тебя даже сейчас мозги на это настроены… Но нет, я хотела рассказать про хомячка. Того, рыжего с белым…
– Хомячка?! Како… А, ну, да, конечно, у нас был хомячок… Хомячиха… Нюся. Которая не пойми как исчезла в квартире – или из квартиры! – а мы так ее и не нашли. Ниночка, бедняжка, проревела целый месяц. Она, кажется, тогда даже в школу не ходила еще… Так ты что – нашла его высохший трупик в каком-нибудь углу?
– Нет, Сережа. Я его убила.
* * *
Она просто уронила это проклятое кольцо, когда снимала с пальца. Серебряное кольцо без камней, массивное, довольно уродливое, крепко державшееся только на указательном пальце, а на среднем некрасиво вертевшееся, норовя спрятать резную печатку. Оно с легким звоном запрыгало по линолеуму, звук явно направлялся под тахту, и Нинин взгляд за ним безнадежно опоздал. Звук оказался быстрей взгляда… Нина честно исползала на карачках весь пол – при этом очень глубоко внутри, как всегда, обозначился привычный страх найти где-нибудь в дальнем углу сухую и легкую мумию хомячка, так же бесследно испарившегося из квартиры в канувших семидесятых, – она и в первый класс еще не пошла тогда. Но ни кольца, ни мумии она так и не обнаружила – нигде, хотя первое искала на совесть, сначала со вниманием, потом с удивлением, потом кому-то назло… Кольцо словно провалилось в другое измерение или галактику. С тех пор прошло около двадцати семи лет – но у Нины до сих пор иногда ни с того ни с сего просыпалось недоверие – не может же быть, чтобы вполне осязаемый предмет за миг распался на атомы! – и тогда она в очередной раз предпринимала дежурную попытку отыскать давнюю пропажу – все так же безрезультатно.
Но, положа руку на сердце, она всегда считала, что с ее жизнью что-то не так – а может, и не с жизнью, а просто с ней самой. Потому что кое-что пропадало, а кое-что и появлялось, вопреки логике и твердым законам бытия. Например, новая перчатка на меху, обидно потерянная в продуктовой «стекляшке», вдруг коварно появилась на тумбе в прихожей – притом, что никак не могла оказаться банально забытой там: ведь не в одной же перчатке прошла Нина восемьсот метров в двадцатиградусный мороз до знакомого магазина!
А кружка, из которой много лет мама пила свой бледно-желтый из-за лимона чай! Нина с детства знала и принимала как данность, что чашка изнутри сплошь как бы облита золотом – такая тонкая старинная чашка, давно утратившая в боях родное блюдце. Представить маму пьющей чай из чего-то другого было равносильно тому, как если бы солнце однажды отправилось в путь справа налево. И вот однажды эта же незыблемая чашка, сохранив идеально выписанный лиловый пион на боку, оказалась внутри примитивно белой, с затейливым вензелем на дне, а широкая золотая кайма уверенно шла теперь лишь поверху. В ответ на дочкино изумление – куда делось все золото из чашки?! – мама включила изумление – свое: «Ты что, Нина? Чашка всегда такой была. Ей уже лет сто, наверное. Раньше их целиком золотыми внутри, скорей всего, и не делали…». Папа выглянул из-за любимой «Вечерки» и с подозрением глянул на дочь – мол, что за странные у нее опять выкрутасы? – конечно, мамина чашка всегда была белая внутри, он даже иногда деликатно брал ее за хрупкую ручку и разглядывал донышко на свет: такая тонкая работа, что окружность почти не видно… Как такое могло получиться, если б чашка внутри была покрыта позолотой? Но Нина ведь тоже любовалась этой чашкой все детство и пол-юности! И именно золото, казалось, переливавшееся через край, прельщало ее…
Чашка и перчатка оставались хотя и загадками, но – были. А вот кольцо Нина сегодня опять проискала всю ночь. Ползала на животе, обливаясь потом, тяжело дыша и до резкой боли свернув шею на сторону, – нет, это ужасно, куда оно могло деться?!
– Просыпаемся! Животы подставляем!
Нина вздрогнула и открыла глаза: палату уже заливал безжалостный мертвенный свет длинной гудящей на потолке лампы – правда, ощущала она его пока только затылком, потому что уже четвертый день, как ей велено было лежать ничком не менее 16 часов в сутки («А лучше – двадцать четыре», – вполне серьезно добавил лечащий врач). Больная осторожно пошевелилась – боль из сведенной судорогой шеи выстрелила в ухо, затылок, плечо… Мыча от напряжения и обреченно ощущая, что воздуха сегодня не хватает чуть-чуть – но все-таки сильней, чем вчера, Нина перевалилась на бок, помогая себе локтем, путаясь в длинной кислородной трубке, а потом мучительно плюхнулась на спину, одновременно привычным движением задирая рубашку, под которой живот превратился уже в сплошной огромный черно-багровый синяк. Фигура, упакованная в мятый одноразовый белый с голубым костюм химзащиты, уже оборачивалась к ней от тумбочки, блеснули мгновенным отсветом лампы огромные пластмассовые очки. Рука, негибкая в двух резиновых перчатках, уже равнодушно захватывала в складку черную кожу Нининого живота.
– Живого места нет… – донеслось из-под клювообразного респиратора. – Уж извини, дорогуша, но колоть-то все равно надо… Вот так… Давай лоб… – в голову прицелилось что-то вроде небольшого игрушечного пистолета, щелкнуло… – Тридцать восемь и девять… Палец давай… Не этот… – пульсоксиметр нежно прижал указательный… – Ты всю ночь на кислороде была или канюли только что вставила?
– Всю… – выдавила Нина и удачно изобразила припекшимися губами храбрую улыбку: – А что, не… очень? Сколько там?
– Девяносто три, – полсекунды поколебавшись, сказала медсестра. – Если б без кислорода, то нижняя граница… Сама, наверное, знаешь. А вот с кислородом не должно так быть. И температура… высоковата. Но доктор придет – разберется… – и девичья фигура, которой «скафандр» каким-то образом даже шел, подчеркивая юную летучесть и гибкость, решительно шагнула к соседней кровати, словно подчеркивая этим, что свое дело сестра сделала, а остальное – не в ее компетенции.
Нина откинулась на подушку, подавляя непроизвольное стремление снова и снова оттягивать ворот рубашки в попытках протолкнуть побольше воздуха в странно сузившееся, будто меховой лапой придавленное дыхательное горло или хоть отодвинуть невидимый лежащий на груди кирпич. Да что ж такое-то? Уже шестнадцатые сутки пошли, как она здесь, а все только хуже и хуже, и неизвестно, на сколько еще затянется! Хорошо хоть дома никто не ждет и не страдает, так что мучиться приходится только одним – собственным – страхом и болью – не двойными, не тройными, как у остальных, прикидывающих, на кого, в случае чего останутся дети… Живность домашняя – и та загодя пристроена… А в молодости у Нины был кот, названный ею в честь экзотического цветка какой-то заведомо недосягаемой страны, обожаемый и единственный (ни один настоящий котолюбитель не поспорит с тем, что истинный кот – как любовь – у человека в жизни может быть только один, сколько бы их впоследствии ни прошло через руки), но умер много лет назад, как раз, когда она попала в больницу с приступом острого холецистита. Родители рассказывали, что до последнего дыхания измученный болезнью и старостью зверь, когда-то похожий на стремительного горного хищника, косил свои изумительные хризолитовые глаза на дверь, все верил, что войдет хозяйка, – войдет и спасет… Или нет – просто почешет под подбородком, проведет двумя пальцами меж острыми бархатными ушами, и легок станет предстоящий неведомый путь.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: