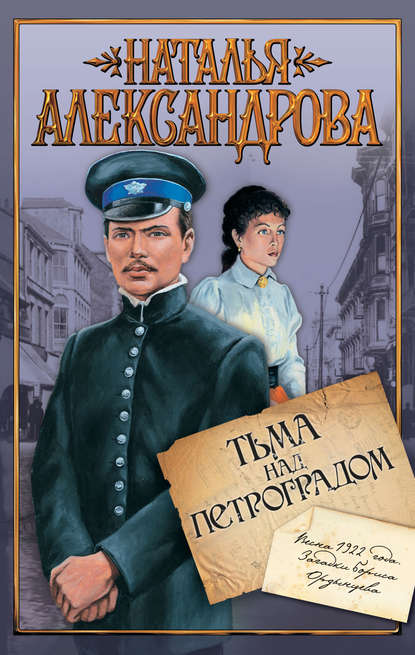По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тьма над Петроградом
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я был уверен, – продолжил хозяин с горьким надломом в голосе, – что Сашеньки нет больше, как и всех остальных… всех остальных. Но недавно через верного человека пришло сообщение, что ее видели там, в России… – он сделал такой неопределенный и странный жест, как будто очертил этим жестом добрую половину мира, – и вот… я хотел бы вас попросить…
Но вместо того чтобы закончить свою просьбу, сановный старик внезапно зашелся сиплым лающим кашлем. Он прижал сухие руки к груди, откинулся на спинку кресла и тяжело, со свистом дышал между приступами кашля. Маленький Павел Петрович подкатился к нему, накапал в синюю хрустальную рюмку чего-то пахучего, резкого, поднес к бескровным губам. Лицо старика быстро порозовело, кашель прекратился, дыхание выровнялось.
– Я хотел бы вас попросить, – продолжил он как ни в чем не бывало, – хотел бы попросить об огромном одолжении. Сашенька – все, что у меня осталось. И если сведения о том, что она жива, верны, то… я ничего не пожалею для ее спасения. Сестра давно умерла, а Сашенька так на нее похожа…
Борис невольно подумал о том, что у такого глубокого старика никак не может быть такой юной племянницы.
Старик склонил голову набок, прикрыл глаза утомленно и надолго затих. Борис почувствовал жалость и сильнейшее раздражение. Для чего полковник Горецкий притащил его в этот старый, пыльный, траченный молью мир, с которым у Бориса не может быть ничего общего? Эти старухи в прихожей, обломки старого режима, как говорят большевики в далекой России, одноглазый генерал… Старые, жалкие, нищие, не ждущие от жизни ничего хорошего… И этот полутруп в кресле…
Борис ощутил, как Аркадий Петрович сильно стиснул его локоть. Неужели он забылся и проговорил последние слова вслух?
Горецкий сердито блеснул пенсне и чуть заметно качнул головой в сторону. Борис перевел глаза на Павла Петровича, который неслышно манил их руками за собой. В углу комнаты оказалась маленькая дверца, задрапированная пыльной малиновой портьерой. Павел Петрович проскользнул в нее привычно легко, Борису же с Аркадием Петровичем пришлось нагнуться. Затворяя за собой дверь, Борис бросил последний взгляд на его высочество. Старик спал, откинув голову и приоткрыв рот.
Комнатка, куда они попали, ничем не походила на кабинет с его увядающей пышностью. Возле крошечного круглого окна стоял простой письменный стол, девственно-чистый – на нем не лежали ни бумаги, ни книги, ни газеты, даже письменного прибора не было. Единственным украшением стола была бронзовая лампа на тяжелой подставке из розового мрамора. Вокруг ножки обвилась виноградная лоза, к бронзовым гроздьям тянулась бронзовая же девушка в греческой тунике с тяжелым узлом волос на затылке. Она делала это с такой грацией, что Борис невольно вспомнил юную гречанку, которую встретил давно, в девятнадцатом году, в Феодосии. Такие же миндалевидные глаза и такой же красивый изгиб тела…
Он тут же поморщился и даже замотал головой. Что за нелепые несвоевременные видения? Наверное, это от сытного обеда, которым накормил его Горецкий. Небось когда сидел впроголодь, о женщинах и думать забыл!
В комнате, кроме стола, помещались еще два венских стула, банкетка и узенькая девичья кровать, полуприкрытая далеко не новой театральной ширмой, на которой Коломбина в маске отчаянно кокетничала с Арлекином в костюме из пестрых лоскутков, а на заднем плане бледный Пьеро воздевал к небу тонкие руки в немой тоске и печально смотрел на блестящие звезды.
Павел Петрович кивнул Горецкому на стул, Борису досталась жесткая банкетка.
– Итак, господа… – Павел Петрович внимательно оглядел своих гостей, и Борис невольно отметил, что голос его и все повадки разительно изменились. Исчезла некоторая нарочитая суетливость движений, а также беспокойство во взгляде. Теперь глаза смотрели прямо на собеседника, и даже из-за пенсне было видно, что Павел Петрович – человек с определенными мыслями в голове, мысли эти он держит при себе и высказывает только в случае крайней необходимости. Вот как сейчас. – Его высочество… – снова Борис отметил, что титул своего покровителя Павел Петрович произнес хоть и с почтением, но без придыхания, – его высочество высказал вам свою просьбу. Я со своей стороны уполномочен ввести вас в курс дела.
«Давно пора! – раздраженно подумал Борис, ощутив, как урчит в животе. – Черт, ведь обедал же сегодня!»
Но желудок, да и весь его молодой организм дал понять, что обед был давно, днем, а сейчас уже вечер и вообще обедать нужно каждый день и ужинать тоже.
Борис невольно заерзал на банкетке, так что Аркадий Петрович неодобрительно на него покосился. Ему показалось даже, что Горецкий насмешливо поднял брови. Борис сдержал порыв тут же встать и уйти. Нужно взять себя в руки, ему ли, который за прошлые годы повидал всякого, стесняться какого-то Павла Петровича, жалкого приживалы при богатом патроне.
Он тут же одернул себя. Хоть он и видел Павла Петровича впервые в жизни, ясно было, что тот вовсе не приживала, что служит несчастному одинокому старику он вовсе не из-за денег и что его высочество без своего наперсника совершенно беспомощен, как малый ребенок.
Павел Петрович вытащил из верхнего ящика стола коленкоровую папку, открыл ее и показал своим собеседникам фотографию.
Молодая женщина, сидя в кресле, держала на коленях младенца. Женщина была красива – тонкие черты лица, пышные волосы, забранные в высокую прическу. Скромное платье с высоким воротником, никаких драгоценностей, только обручальное кольцо на пальце правой руки. Женщина смотрела прямо перед собой, на губах ее бродила рассеянная улыбка. Ребенок таращил глаза в объектив, ожидая, надо полагать, когда вылетит птичка.
Под фотографией была дата – 1900 год, и стояло имя известного петербургского фотографа.
– Это сестра его высочества, Ольга Кирилловна, по мужу Сергеева, с дочерью Сашей. Она была моложе его высочества на двадцать лет – разные браки, знаете ли. Но несмотря на это, они были очень близки с его высочеством. В тысяча восемьсот девяносто седьмом году она вышла замуж за полковника Сергеева. Этот брак, несомненно, был мезальянсом, так что понадобилось высочайшее разрешение государя императора. Как вы сами понимаете, все родственники были против. Однако Ольга Кирилловна, несмотря на хрупкую внешность, обладала весьма твердым характером, она сама добилась приема у государя и сумела убедить его дать разрешение на брак.
«Для чего такое длинное вступление?» – подумал Борис, и Павел Петрович тотчас прервал свой экскурс в историю, словно прочитав его мысли.
– Я потому, господа, показал вам этот дагерротип, что Сашенька была очень похожа на свою мать, и сами понимаете, ее снимков во взрослом состоянии здесь быть никак не может. Сейчас ей двадцать четыре года, так что вполне возможно, что она выглядит так же.
Борис еще раз взглянул на фотографию и подумал, что вряд ли неизвестная Сашенька выглядит такой же счастливой и безмятежной, как ее матушка. В Советской России, надо думать, нет сейчас особенных причин для счастья.
– Уместно ли будет спросить, отчего Ольга Кирилловна с дочерью не сумели выехать из России? – поинтересовался Аркадий Петрович.
Снова он выглядел этаким рассеянным профессором, не от мира сего, Борису на миг показалось, что Горецкий переигрывает. Но зачем? Опасается этих людей? Вряд ли. Положение Аркадия Петровича здесь, в Париже, весьма прочно и независимо. Это Борис болтается неприкаянно и готов взяться за любую работу, чтобы не умереть с голоду, а Горецкий всегда найдет людей, которым будут нужны его знания и опыт. Возможно, это будут англичане, возможно – французы. В Константинополе, к примеру, Горецкий по договоренности сотрудничал с турецкой полицией[2 - См. роман Н. Александровой «Закат на Босфоре».]. Правда, он сказал, что сейчас временно не у дел, так Борис этому не поверил. Вид у Аркадия Петровича совсем не праздный. Но отчего же он так осторожен в разговоре с этим помощником его высочества?
Борис мысленно пожал плечами и решил, что он просто давно не видел Горецкого, оттого и кажется ему поведение бывшего полковника немного странным.
– Дело в том, – отвечал между тем Павел Петрович, – что муж Ольги Кирилловны в семнадцатом году находился на фронте, заболел там тяжело. Она, получив срочную депешу, решилась ехать к нему, оставив Сашу на попечение верной своей подруги Агнии Львовны Мезенцевой. Однако не доехала до Ставки, поскольку узнала, что мужа отправили в тыл. Пока она добиралась до него, поезд разграбили пьяные дезертиры, она осталась без вещей и без денег, с трудом добралась до Петрограда. Полковник Сергеев умер в пути, это последние верные сведения о семье. В восемнадцатом году, спасаясь от голода и террора, Ольга Кирилловна с дочерью выехали из Петрограда на юг.
«Все ясно, – Борис переглянулся с Аркадием Петровичем, – родные так и не смогли простить великой княжне мезальянса. Они терпеть не могли ее мужа – как же, простой полковник! – и ненавидели саму Ольгу за то, что проявила характер и решилась поступить против воли семьи. Она отдалилась от них и жила как обычные люди – муж служил, она воспитывала дочку. Все было бы прекрасно, если бы не случилась революция».
Он вспомнил ужасную зиму восемнадцатого года в Петрограде. Синие губы умирающей матери, ее задыхающийся шепот, темнота на улицах, еженощное бдение в ожидании, что придут, застучат сапогами в дверь, ворвутся пьяные матросы с обыском, отберут все, что еще не отобрали до них, и уведут с собой, в страшные подвалы Чрезвычайки. Голод и холод гнал людей на улицы, нужно было менять вещи на дрова и продукты. Днем на толкучке орудовали воры и мошенники, ночью обывателей подстерегал патруль и налетчики. Борис похоронил мать в феврале и к весне с трудом вырвался из этого ада.
– Их просто бросили на произвол судьбы, ведь так? – спросил Борис, в упор глядя на Павла Петровича.
– Не нужно так горячиться, – сказал Павел Петрович, не отводя глаз, – мне характеризовали вас как спокойного, уравновешенного, здравомыслящего человека.
Горецкий тронул Бориса за руку и бросил косой взгляд из-под пенсне. Взгляд был из репертуара не того добрячка-профессора, а полковника, который умел повелевать и допрашивать.
– По непроверенным данным, – продолжал Павел Петрович после некоторого молчания, – мать с дочерью видели осенью девятнадцатого года в Киеве, после чего след их потерялся.
Борис тяжело вздохнул. Он вспомнил выматывающие поиски пропавшей сестренки Вари, вспомнил, как он мотался по югу России, переходя от надежды к отчаянию, едва успевая уворачиваться от многочисленных опасностей.
– Его высочество не надеялся на встречу с сестрой и племянницей, он думал, что их нет в живых. И вот несколько недель назад до нас дошла весть, что Сашенька жива.
– Каким образом ей удалось спастись? – с интересом спросил Горецкий.
– Неизвестно, – на этот раз Павел Петрович опустил глаза, – я вам больше скажу, неизвестно, где она живет и с кем. Но Ольги Кирилловны нет в живых, это точно. Не стану скрывать, человек, что привез известие о Саше, сам ее не видел…
– Вот как? – Горецкий с недоверием поднял брови.
– Он имел беседу с неким лицом, которое утверждало, что знает о местонахождении Александры Николаевны и может снестись с ней в любое время. Человек этот в свое время был коротко знаком с его высочеством, – Павел Петрович кивнул на стену, что выходила в кабинет, – у нас нет причин ему не доверять. Он со своей стороны вынужден быть очень осторожным, вы понимаете почему. Поэтому он не дал посыльному ни письма, ни открытки, а только просил передать на словах, что Сашенька находится в крайне бедственном положении и нуждается в помощи. Он, разумеется, ничего ей не говорил, чтобы не вселять необоснованную надежду.
Горецкий согласно кивнул, показывая, что одобряет такое поведение.
– Мне неясно одно, – медленно проговорил Борис, – какое отношение ко всей этой истории имею я?
– Вот как раз сейчас я объясню! – обрадовался Павел Петрович. – Дело в том, что лицо, от которого мы получили сведения о племяннице, – это Ртищев Павел Аристархович, вам знакомо это имя?
– Ртищев! – воскликнул Борис. – Не может быть!
Профессор, искусствовед, старый друг его отца, Павел Аристархович Ртищев был знаком ему с детства. Он часто бывал у них дома – запросто, без приглашения, так как был накоротке со всем семейством. Он был холост и утверждал, что дети Ордынцевы заменяют ему племянников. Летом они снимали дачи рядом в Озерках, Павел Аристархович водил Бориса гулять на дальнее озеро – это называлось «пойти в поход», они устраивали привал и настоящий костер и даже иногда пекли в нем картошку. Маленькую Варю не брали на такие прогулки, и она дулась потом на Бориса целый вечер.
Зато дядя Па, как называла его Варя, научил ее стрелять из самодельного лука. Они втыкали в Варины волосы несколько вороньих перьев, раскрашивали лицо сажей и маминой губной помадой, дядя Па называл Варю настоящей индейской скво. Борис и сейчас видит перед собой чумазую мордашку с растрепанными льняными кудряшками.
Отец не принимал участия в их забавах, он терпеть не мог дачную жизнь, все эти пикники и катания на лодках.
«Что такое пикник? – посмеивался он, видя, как мама запаковывает корзинку с едой. – Это когда вот это яйцо надо обязательно съесть под вон той сосной! Почему чай с вареньем надо пить обязательно на террасе? Потому что только там вас искусают комары! А без комаров летом чаю не бывает!»
– Неужели Павел Аристархович жив? – удивился Борис. – Неужели он уцелел после голода, расстрелов и чисток?
– Представьте себе, – кивнул Павел Петрович. – Жизнь иногда бывает непредсказуема. Он имел беседу с нашим человеком и не скрыл, что не доверяет ему. По этой причине он не назвал ни своего местожительства, ни местонахождения Александры Николаевны. Он заявил, что может довериться только вам – про вас он точно знает, что вы в эмиграции и никак не можете быть агентом ГПУ.
Борис пожал плечами – похоже, старик малость тронулся там, в Петрограде, от страха и голода. Он тут же почувствовал, как щеки опалила краска стыда. Какое право он имеет так думать? Сколько мужества понадобилось несчастному Павлу Аристарховичу, чтобы выжить в голодном, холодном и враждебном городе! А ведь он далеко не молод, года на три старше отца…
Но вместо того чтобы закончить свою просьбу, сановный старик внезапно зашелся сиплым лающим кашлем. Он прижал сухие руки к груди, откинулся на спинку кресла и тяжело, со свистом дышал между приступами кашля. Маленький Павел Петрович подкатился к нему, накапал в синюю хрустальную рюмку чего-то пахучего, резкого, поднес к бескровным губам. Лицо старика быстро порозовело, кашель прекратился, дыхание выровнялось.
– Я хотел бы вас попросить, – продолжил он как ни в чем не бывало, – хотел бы попросить об огромном одолжении. Сашенька – все, что у меня осталось. И если сведения о том, что она жива, верны, то… я ничего не пожалею для ее спасения. Сестра давно умерла, а Сашенька так на нее похожа…
Борис невольно подумал о том, что у такого глубокого старика никак не может быть такой юной племянницы.
Старик склонил голову набок, прикрыл глаза утомленно и надолго затих. Борис почувствовал жалость и сильнейшее раздражение. Для чего полковник Горецкий притащил его в этот старый, пыльный, траченный молью мир, с которым у Бориса не может быть ничего общего? Эти старухи в прихожей, обломки старого режима, как говорят большевики в далекой России, одноглазый генерал… Старые, жалкие, нищие, не ждущие от жизни ничего хорошего… И этот полутруп в кресле…
Борис ощутил, как Аркадий Петрович сильно стиснул его локоть. Неужели он забылся и проговорил последние слова вслух?
Горецкий сердито блеснул пенсне и чуть заметно качнул головой в сторону. Борис перевел глаза на Павла Петровича, который неслышно манил их руками за собой. В углу комнаты оказалась маленькая дверца, задрапированная пыльной малиновой портьерой. Павел Петрович проскользнул в нее привычно легко, Борису же с Аркадием Петровичем пришлось нагнуться. Затворяя за собой дверь, Борис бросил последний взгляд на его высочество. Старик спал, откинув голову и приоткрыв рот.
Комнатка, куда они попали, ничем не походила на кабинет с его увядающей пышностью. Возле крошечного круглого окна стоял простой письменный стол, девственно-чистый – на нем не лежали ни бумаги, ни книги, ни газеты, даже письменного прибора не было. Единственным украшением стола была бронзовая лампа на тяжелой подставке из розового мрамора. Вокруг ножки обвилась виноградная лоза, к бронзовым гроздьям тянулась бронзовая же девушка в греческой тунике с тяжелым узлом волос на затылке. Она делала это с такой грацией, что Борис невольно вспомнил юную гречанку, которую встретил давно, в девятнадцатом году, в Феодосии. Такие же миндалевидные глаза и такой же красивый изгиб тела…
Он тут же поморщился и даже замотал головой. Что за нелепые несвоевременные видения? Наверное, это от сытного обеда, которым накормил его Горецкий. Небось когда сидел впроголодь, о женщинах и думать забыл!
В комнате, кроме стола, помещались еще два венских стула, банкетка и узенькая девичья кровать, полуприкрытая далеко не новой театральной ширмой, на которой Коломбина в маске отчаянно кокетничала с Арлекином в костюме из пестрых лоскутков, а на заднем плане бледный Пьеро воздевал к небу тонкие руки в немой тоске и печально смотрел на блестящие звезды.
Павел Петрович кивнул Горецкому на стул, Борису досталась жесткая банкетка.
– Итак, господа… – Павел Петрович внимательно оглядел своих гостей, и Борис невольно отметил, что голос его и все повадки разительно изменились. Исчезла некоторая нарочитая суетливость движений, а также беспокойство во взгляде. Теперь глаза смотрели прямо на собеседника, и даже из-за пенсне было видно, что Павел Петрович – человек с определенными мыслями в голове, мысли эти он держит при себе и высказывает только в случае крайней необходимости. Вот как сейчас. – Его высочество… – снова Борис отметил, что титул своего покровителя Павел Петрович произнес хоть и с почтением, но без придыхания, – его высочество высказал вам свою просьбу. Я со своей стороны уполномочен ввести вас в курс дела.
«Давно пора! – раздраженно подумал Борис, ощутив, как урчит в животе. – Черт, ведь обедал же сегодня!»
Но желудок, да и весь его молодой организм дал понять, что обед был давно, днем, а сейчас уже вечер и вообще обедать нужно каждый день и ужинать тоже.
Борис невольно заерзал на банкетке, так что Аркадий Петрович неодобрительно на него покосился. Ему показалось даже, что Горецкий насмешливо поднял брови. Борис сдержал порыв тут же встать и уйти. Нужно взять себя в руки, ему ли, который за прошлые годы повидал всякого, стесняться какого-то Павла Петровича, жалкого приживалы при богатом патроне.
Он тут же одернул себя. Хоть он и видел Павла Петровича впервые в жизни, ясно было, что тот вовсе не приживала, что служит несчастному одинокому старику он вовсе не из-за денег и что его высочество без своего наперсника совершенно беспомощен, как малый ребенок.
Павел Петрович вытащил из верхнего ящика стола коленкоровую папку, открыл ее и показал своим собеседникам фотографию.
Молодая женщина, сидя в кресле, держала на коленях младенца. Женщина была красива – тонкие черты лица, пышные волосы, забранные в высокую прическу. Скромное платье с высоким воротником, никаких драгоценностей, только обручальное кольцо на пальце правой руки. Женщина смотрела прямо перед собой, на губах ее бродила рассеянная улыбка. Ребенок таращил глаза в объектив, ожидая, надо полагать, когда вылетит птичка.
Под фотографией была дата – 1900 год, и стояло имя известного петербургского фотографа.
– Это сестра его высочества, Ольга Кирилловна, по мужу Сергеева, с дочерью Сашей. Она была моложе его высочества на двадцать лет – разные браки, знаете ли. Но несмотря на это, они были очень близки с его высочеством. В тысяча восемьсот девяносто седьмом году она вышла замуж за полковника Сергеева. Этот брак, несомненно, был мезальянсом, так что понадобилось высочайшее разрешение государя императора. Как вы сами понимаете, все родственники были против. Однако Ольга Кирилловна, несмотря на хрупкую внешность, обладала весьма твердым характером, она сама добилась приема у государя и сумела убедить его дать разрешение на брак.
«Для чего такое длинное вступление?» – подумал Борис, и Павел Петрович тотчас прервал свой экскурс в историю, словно прочитав его мысли.
– Я потому, господа, показал вам этот дагерротип, что Сашенька была очень похожа на свою мать, и сами понимаете, ее снимков во взрослом состоянии здесь быть никак не может. Сейчас ей двадцать четыре года, так что вполне возможно, что она выглядит так же.
Борис еще раз взглянул на фотографию и подумал, что вряд ли неизвестная Сашенька выглядит такой же счастливой и безмятежной, как ее матушка. В Советской России, надо думать, нет сейчас особенных причин для счастья.
– Уместно ли будет спросить, отчего Ольга Кирилловна с дочерью не сумели выехать из России? – поинтересовался Аркадий Петрович.
Снова он выглядел этаким рассеянным профессором, не от мира сего, Борису на миг показалось, что Горецкий переигрывает. Но зачем? Опасается этих людей? Вряд ли. Положение Аркадия Петровича здесь, в Париже, весьма прочно и независимо. Это Борис болтается неприкаянно и готов взяться за любую работу, чтобы не умереть с голоду, а Горецкий всегда найдет людей, которым будут нужны его знания и опыт. Возможно, это будут англичане, возможно – французы. В Константинополе, к примеру, Горецкий по договоренности сотрудничал с турецкой полицией[2 - См. роман Н. Александровой «Закат на Босфоре».]. Правда, он сказал, что сейчас временно не у дел, так Борис этому не поверил. Вид у Аркадия Петровича совсем не праздный. Но отчего же он так осторожен в разговоре с этим помощником его высочества?
Борис мысленно пожал плечами и решил, что он просто давно не видел Горецкого, оттого и кажется ему поведение бывшего полковника немного странным.
– Дело в том, – отвечал между тем Павел Петрович, – что муж Ольги Кирилловны в семнадцатом году находился на фронте, заболел там тяжело. Она, получив срочную депешу, решилась ехать к нему, оставив Сашу на попечение верной своей подруги Агнии Львовны Мезенцевой. Однако не доехала до Ставки, поскольку узнала, что мужа отправили в тыл. Пока она добиралась до него, поезд разграбили пьяные дезертиры, она осталась без вещей и без денег, с трудом добралась до Петрограда. Полковник Сергеев умер в пути, это последние верные сведения о семье. В восемнадцатом году, спасаясь от голода и террора, Ольга Кирилловна с дочерью выехали из Петрограда на юг.
«Все ясно, – Борис переглянулся с Аркадием Петровичем, – родные так и не смогли простить великой княжне мезальянса. Они терпеть не могли ее мужа – как же, простой полковник! – и ненавидели саму Ольгу за то, что проявила характер и решилась поступить против воли семьи. Она отдалилась от них и жила как обычные люди – муж служил, она воспитывала дочку. Все было бы прекрасно, если бы не случилась революция».
Он вспомнил ужасную зиму восемнадцатого года в Петрограде. Синие губы умирающей матери, ее задыхающийся шепот, темнота на улицах, еженощное бдение в ожидании, что придут, застучат сапогами в дверь, ворвутся пьяные матросы с обыском, отберут все, что еще не отобрали до них, и уведут с собой, в страшные подвалы Чрезвычайки. Голод и холод гнал людей на улицы, нужно было менять вещи на дрова и продукты. Днем на толкучке орудовали воры и мошенники, ночью обывателей подстерегал патруль и налетчики. Борис похоронил мать в феврале и к весне с трудом вырвался из этого ада.
– Их просто бросили на произвол судьбы, ведь так? – спросил Борис, в упор глядя на Павла Петровича.
– Не нужно так горячиться, – сказал Павел Петрович, не отводя глаз, – мне характеризовали вас как спокойного, уравновешенного, здравомыслящего человека.
Горецкий тронул Бориса за руку и бросил косой взгляд из-под пенсне. Взгляд был из репертуара не того добрячка-профессора, а полковника, который умел повелевать и допрашивать.
– По непроверенным данным, – продолжал Павел Петрович после некоторого молчания, – мать с дочерью видели осенью девятнадцатого года в Киеве, после чего след их потерялся.
Борис тяжело вздохнул. Он вспомнил выматывающие поиски пропавшей сестренки Вари, вспомнил, как он мотался по югу России, переходя от надежды к отчаянию, едва успевая уворачиваться от многочисленных опасностей.
– Его высочество не надеялся на встречу с сестрой и племянницей, он думал, что их нет в живых. И вот несколько недель назад до нас дошла весть, что Сашенька жива.
– Каким образом ей удалось спастись? – с интересом спросил Горецкий.
– Неизвестно, – на этот раз Павел Петрович опустил глаза, – я вам больше скажу, неизвестно, где она живет и с кем. Но Ольги Кирилловны нет в живых, это точно. Не стану скрывать, человек, что привез известие о Саше, сам ее не видел…
– Вот как? – Горецкий с недоверием поднял брови.
– Он имел беседу с неким лицом, которое утверждало, что знает о местонахождении Александры Николаевны и может снестись с ней в любое время. Человек этот в свое время был коротко знаком с его высочеством, – Павел Петрович кивнул на стену, что выходила в кабинет, – у нас нет причин ему не доверять. Он со своей стороны вынужден быть очень осторожным, вы понимаете почему. Поэтому он не дал посыльному ни письма, ни открытки, а только просил передать на словах, что Сашенька находится в крайне бедственном положении и нуждается в помощи. Он, разумеется, ничего ей не говорил, чтобы не вселять необоснованную надежду.
Горецкий согласно кивнул, показывая, что одобряет такое поведение.
– Мне неясно одно, – медленно проговорил Борис, – какое отношение ко всей этой истории имею я?
– Вот как раз сейчас я объясню! – обрадовался Павел Петрович. – Дело в том, что лицо, от которого мы получили сведения о племяннице, – это Ртищев Павел Аристархович, вам знакомо это имя?
– Ртищев! – воскликнул Борис. – Не может быть!
Профессор, искусствовед, старый друг его отца, Павел Аристархович Ртищев был знаком ему с детства. Он часто бывал у них дома – запросто, без приглашения, так как был накоротке со всем семейством. Он был холост и утверждал, что дети Ордынцевы заменяют ему племянников. Летом они снимали дачи рядом в Озерках, Павел Аристархович водил Бориса гулять на дальнее озеро – это называлось «пойти в поход», они устраивали привал и настоящий костер и даже иногда пекли в нем картошку. Маленькую Варю не брали на такие прогулки, и она дулась потом на Бориса целый вечер.
Зато дядя Па, как называла его Варя, научил ее стрелять из самодельного лука. Они втыкали в Варины волосы несколько вороньих перьев, раскрашивали лицо сажей и маминой губной помадой, дядя Па называл Варю настоящей индейской скво. Борис и сейчас видит перед собой чумазую мордашку с растрепанными льняными кудряшками.
Отец не принимал участия в их забавах, он терпеть не мог дачную жизнь, все эти пикники и катания на лодках.
«Что такое пикник? – посмеивался он, видя, как мама запаковывает корзинку с едой. – Это когда вот это яйцо надо обязательно съесть под вон той сосной! Почему чай с вареньем надо пить обязательно на террасе? Потому что только там вас искусают комары! А без комаров летом чаю не бывает!»
– Неужели Павел Аристархович жив? – удивился Борис. – Неужели он уцелел после голода, расстрелов и чисток?
– Представьте себе, – кивнул Павел Петрович. – Жизнь иногда бывает непредсказуема. Он имел беседу с нашим человеком и не скрыл, что не доверяет ему. По этой причине он не назвал ни своего местожительства, ни местонахождения Александры Николаевны. Он заявил, что может довериться только вам – про вас он точно знает, что вы в эмиграции и никак не можете быть агентом ГПУ.
Борис пожал плечами – похоже, старик малость тронулся там, в Петрограде, от страха и голода. Он тут же почувствовал, как щеки опалила краска стыда. Какое право он имеет так думать? Сколько мужества понадобилось несчастному Павлу Аристарховичу, чтобы выжить в голодном, холодном и враждебном городе! А ведь он далеко не молод, года на три старше отца…