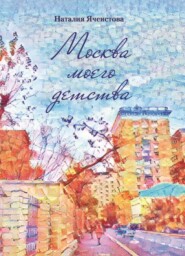По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тонкая грань
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Здрасьте! – прохрипела она в ответ.
Мой взгляд вопреки желанию коснулся её воспалённого лица, полуприкрытых век, запёкшихся губ. Сердце моё упало. Наверное, встреча с Вием повергла бы меня в меньший ужас.
Пройдя к своей кровати, я рухнула лицом в подушку, обтянутую серой, жёстко накрахмаленной наволочкой с маленькими дырочками, сквозь которые просвечивала алая ткань, словно капельки крови. Стало ясно, что санатория тут не получится.
Прошло несколько часов, а я лежала всё там же, только уже на спине, глядя в потолок. Ужасная старуха к этому времени перебралась с кресла на кровать и теперь, видимо, спала, издавая сиплые звуки.
«За что?» – вот вопрос, который не давал мне покоя. Я знала, что следовало спрашивать не «за что?», а «для чего?», но и этот вопрос оставался без ответа. Зачем, для чего в столь погожий солнечный августовский день я лежу в душной комнате, на казённой кровати, рядом с тяжело больной храпящей женщиной? Может, Господь таким образом воспитывает во мне смирение? Я готова была прилюдно поклясться, что буду впредь смиряться всегда и во всём, только бы вырваться отсюда поскорее. Но с Господом Богом такой разговор не годится.
Пройтись, что ли, по коридору? Тусклое длинное помещение, слабо освещённое жужжащими лампами дневного света. Ни души вокруг – видно, не пик сезона для инфекционных заболеваний. Под худосочной пальмой присела в кресло, провалившись в его дряхлую глубину. Сколько времени, интересно, мне предстоит тут провести? Появившаяся внезапно медсестра заставила меня вернуться в палату: оказывается, здесь больным запрещено выходить в коридор! Вот так новость! То есть никакого тебе социума, как это было в прежнем корпусе, никаких общих трапез в столовой, во время которых пациентки рассказывают друг другу душещипательные истории! Что же, две-три недели провести лицом к лицу с этой окровавленной бабкой?! Да разве можно такое вынести?
В семь часов вечера сестра принесла ужин, поставила подносы на небольшой квадратный столик, покрытый клеёнкой, и удалилась.
Старуха, кряхтя, свесила с кровати толстые ноги и, нашарив мысками тапки, проковыляла к столу.
– Не будете? – спросила она меня с ехидцей, видя, что я не двигаюсь с места.
– Не хочется, – честно ответила я. И лишь когда она закончила есть, я подошла к столу и выпила стакан остывшего чая.
К вечеру я разобрала и обустроила своё «хозяйство». На тумбочке поставила иконку-складень, на спинку кровати повесила пару кофт, отгородившись таким образом от соседки, в ванную комнату отнесла туалетные принадлежности. Достала молитвослов и стал читать молитвы «На сон грядущим». Теперь я смогу по крайней мере полностью читать утреннее и вечернее правила, а то дома у меня никогда не хватало на это времени… Я опасалась, что из-за храпа соседки не смогу заснуть, но сон охватил меня сразу, едва я сомкнула глаза, и был он крепким, как у солдата после длинного, изматывающего перехода.
Утро началось с приятной новости: выяснилось, что инфекционным больным запрещено выходить только в коридор – а вот на улицу, то есть на больничную территорию, – пожалуйста! Логика такого порядка явно отсутствовала, но я тут же воспользовалась ситуацией.
Палата наша, находившаяся на первом этаже, имела весьма оригинальную конструкцию, она имела два выхода: один – в коридор, а другой, через ванную комнату (!) – наружу, в больничный парк. Таким образом, каждое сообщение с внешним миром было в определённом смысле увязано с принятием ванных процедур твоим соседом. К тому же выяснилось, что дверь, ведущая из нашей палаты через душевую в парк, не закрывалась – замок был сломан, но я не рискнула никому об этом сообщать, опасаясь, как бы дверь не забили вовсе.
Главное, что доступ к относительной свободе был обеспечен! Я воспрянула духом. Тем более что в ЦКБ есть одно бесспорное достоинство – обширная парковая территория с тенистыми аллеями. Всё свободное время я теперь проводила на прогулках, временами читала, писала и возвращалась в палату лишь для сна, еды и процедур. Каждый день меня мазали, кололи, массажировали, электростимулировали, подвергали магнитному воздействию и прочим загадочным процедурам. Я допытывалась у лечащего врача, румяной здоровой женщины с пышным бюстом, что это, собственно, такое, «герпес зостер»? Что это за болезнь такая и как она могла ко мне прицепиться? На мои вопросы она давала уклончивые ответы: мол, «герпес зостер» – болезнь очень странная, и даже сегодня, в двадцать первом веке, до конца не исследована. Поэтому врачи рады каждому новому пациенту, ведь он представляет ценный научный интерес. По её словам выходило, что свой герпес живёт в организме каждого человека, но вот взбунтоваться, вылезти наружу он решается далеко не всегда. Для этого нужны особые условия, чаще всего – падение иммунитета… Но почему это произошло со мной? До этого я три года работала в Китае и ничем не болела, а тут, дома, на даче – вдруг падение иммунитета!.. Так или иначе, боли в руке постепенно проходили, а с ними – и противные волдыри. Глядя на свою соседку, я не переставала благодарить Бога за то, что он послал мне «злой герпес» на руку, а не на физиономию. Меня мазали зелёнкой, и мой внешний вид был в общем-то вполне безобиден – как у школьницы после ветрянки. Бедная же моя напарница подвергалась ежедневному обмазыванию фукорцином, обновлявшим малиновую расцветку её лица, столь потрясшую меня в первый день.
Лидия Ивановна сильно страдала от своей болезни – и физически, и психологически. Она не решалась выходить на прогулки, а лишь ненадолго выносила за порог свой стул и грелась на солнышке, пугая своим видом гуляющих пациентов.
Кстати, вскоре я обнаружила, что наш корпус практически пуст: лишь в нескольких палатах просматривались признаки обитания. Обидно было услышать разговор по телефону пациентки со второго этажа. Та с радостью сообщала подруге, в каких замечательных условиях она оказалась: «Отдельный номер с балконом и видом на парк, в номере – душ, туалет, биде, телевизор!» Спрашивается: где справедливость?
Я предприняла ещё одну попытку переговоров с регистраторшей, но мне повторили: пустующие палаты ожидают своих пациентов – больных не герпесом, а другими болезнями. Форменное издевательство! Но я же обещала Господу смиряться…
Укрепляющийся по мере выздоровления аппетит заставил меня пойти на совместные трапезы с соседкой. Когда нам приносили еду, мы садились бок о бок за стол, и я старалась думать о чём-то своем, глядя в тарелку. Есть раздельно, после неё, было неудобно: остывшая больничная пища не лезла в горло, да и не хотелось обижать старую женщину.
Соседка моя оказалась разговорчивой особой, и вскоре я узнала от неё версию её заболевания. В прошлом году, в день святого Ильи-пророка она собиралась пойти в церковь, но потом передумала и пошла на рынок. В это время началась, как и положено в такой день, гроза, прошёл сильный ливень. Возвращаясь с полными сумками, она поскользнулась на лестнице подземного перехода и сломала ногу, после чего провела в больнице несколько месяцев. Но тот урок не пошёл ей впрок, и в этом году случилась опять похожая история: снова пошла она в праздник не в церковь, а в магазин.
– Илья-пророк – святой строгий, – объясняла она. – Наказал меня за вольнодумство. И вот тебе результат: герпес на роже!
Я, в свою очередь, пыталась понять причину собственного герпеса, но тщетно. Помнила лишь, что, возвращаясь с дачи в электричке, почувствовала мгновенную боль, как если бы игла вошла в плечо. Может, именно в тот момент этот невидимый «злой герпес» и впился в меня – расслабленную и сонную…
Соседка по палате охотно рассказывала о себе. Вскоре она поведала, что у неё есть «непутёвый сын», который частенько «поддаёт», толком не зарабатывает и ничего по большому счёту собой не представляет. Сама Лидия Ивановна работала уборщицей в Белом доме (любая причастность к Белому дому давала, как выяснилось, право на бесплатное медицинское обслуживание в ЦКБ), но от сына своего ждала гораздо большего, и его неудавшаяся жизнь глубоко её огорчала. «Непутёвый сын» тем не менее через день посещал свою мать в больнице, приносил ей фрукты, соки и столь необходимые туалетные принадлежности. Во время встреч со своим великовозрастным дитятей мать неустанно наставляла и поучала его, а после его ухода вздыхала и повторяла: «Не знаю, как только его жена терпит. Хорошая женщина, дай Бог ей здоровья!»
Пока я находилась в больнице, меня долго никто не навещал, да и звонили нечасто: все были заняты своими делами и были уверены, что уж кто-то непременно позаботится обо мне. Я понимала, что православный человек не должен чувствовать себя одиноким, так как с ним всегда Господь. Но всё же хотелось иметь кого-то близкого и на земле! И словно снизойдя к моей немощи, Господь послал ко мне в один из дней мою подругу Галю. Она привезла мне необходимые вещи – минеральную воду и свою тёплую кашемировую шаль, в которую я неизменно куталась потом во время прогулок: смена сезонов застигла меня в больнице, и, несмотря на солнечную погоду, всё чаще налетал порывами прохладный ветер. Галин приезд ко мне, заражённой герпесом, очень меня растрогал и обрадовал. От кашемировой шали веяло домом, уютом, благополучием. С этого дня болезнь стала отступать.
Я старалась разнообразить свои маршруты: один раз пойду в правую часть парка, другой раз – в левую. Но почти неизменно мой путь пролегал мимо небольшого жёлтого домика, стоящего чуть поодаль. Было в нём что-то необычное, умиротворяющее, никто никогда не суетился вокруг. Однажды я сорвала тайком рядом на лужайке несколько простеньких жёлтых цветочков и поставила их в стакан на тумбочке. Господи, сколько же изящества и красоты было в этих неказистых цветочках, сколько радости доставляло мне их созерцание!
Время шло, и постепенно я привыкла к изуродованной внешности Лидии Ивановны (процесс выздоровления шёл у неё медленно, сложнее, чем у меня). Я уже могла разговаривать с ней, не отводя глаз от её физиономии, и общение наше стало весьма интенсивным. Лидия Ивановна накопила много воспоминаний за свою долгую жизнь (а было ей далеко за восемьдесят) и теперь с удовольствием делилась ими со мной. Поначалу воспринятые мной как старческие выдумки, её истории постепенно всё более и более увлекали меня, и я наконец поняла, что передо мной живой бесценный свидетель исторических событий.
Лидия Ивановна была родом из Калужской области, где у меня находилась дача, и это особым образом роднило нас. Во время Великой Отечественной войны деревню, где жила их семья, заняли немцы. К тому времени там оставались лишь старики, женщины и дети – все мужчины сражались на фронте. Девочке Лиде запомнилось, что немцы в деревне не бесчинствовали, только отбирали у жителей продукты. Но среди односельчан постоянно царил страх, который пронизывал до костей. Трудно понять и смириться с тем, что твои родные – отцы, мужья, братья находятся невесть где, а рядом по твоей земле ходят и хозяйничают фашисты. Среди немцев было много молодых солдат, а офицеры выделялись красивой формой и выправкой. Однажды Лида играла с младшими братом и сестрой возле сарая, как вдруг подошёл немецкий офицер и стал что-то спрашивать у них. Они молча стояли перед ним, выстроившись шеренгой – белобрысые, голубоглазые, мало чем, наверное, отличавшиеся внешне от его детей, и не понимали, чего он от них хочет. Разозлённый немец снял перчатку и отхлестал их по лицам. Было не-больно, но, опять же, страшно.
А однажды по деревне, как молния, распространилась весть, что неподалеку партизаны убили немецкого офицера. В ту же ночь мать собрала детей и увела их в лес. Все плакали: было жалко оставлять корову Веснушку. К утру все дома в деревне были сожжены немцами; почти все, кто там находился, погибли. Лида видела из оврага, как догорала крыша их дома и дым возносился в небо. Вместе с матерью, братом и сестрой они смогли добраться до тётки – сестры матери, где и жили до окончания войны…
Сцены из детства и военного времени Лидия Ивановна воспроизводила живо и эмоционально, словно это было совсем недавно, и трудно было поверить, что этой женщине за восемьдесят, что она так много пережила в своей жизни.
Со временем я присмотрелась и к другим обитателям нашего корпуса, с которыми сталкивалась либо по пути на процедуры, либо во время прогулок. Среди них выделялся высокий худощавый мужчина сумрачного вида, который, казалось, был постоянно погружён в собственные мысли и никого не замечал вокруг. Взгляд его был отрешённым, тонкие губы сжаты в слегка презрительной улыбке, и весь он производил впечатление какой-то окаменелости, зажатости, а его коротко подстриженная голова неподвижно, словно туго привинченная, сидела на жёсткой шее.
Этот мужчина находился через две палаты от нашей, и я ни разу не видела, чтобы кто-то приезжал к нему или чтобы он разговаривал по телефону. Завидев его в аллее парка, я старалась поскорее свернуть в другую сторону: почему-то мне не хотелось встречаться с ним – какая-то смутная тревога, на грани страха, охватывала меня каждый раз, когда я видела его.
Как я уже говорила, конструкция палат в нашем корпусе была весьма своеобразной. Та стена, которая граничила с коридором, имела дверь и большие окна, завешенные со стороны коридора вертикальными жалюзи с редкими просветами, что создавало в палатах некую видимость уединённости, но не полной изолированности. Когда по вечерам медсестра, закончив обход, удалялась, мы обычно закрывали дверь в коридор на ключ. Однажды я проснулась среди ночи от глубокого беспокойства. Яркий месяц светил прямо в лицо, рассекая зловещую ночную мглу. Поначалу я приписала свою панику этому явлению, но тут среди мёртвой тишины вдруг послышались размеренные шаги: кто-то тяжёлой поступью ходил совсем рядом по коридору – туда-сюда. Я напряглась: кто это? Весь медперсонал, за исключением дежурной сестры, ночью уходил из корпуса. Но дежурной сестры и днём-то никогда не было на месте, не то что ночью. Да и не ходят так сёстры… Ясно, что это тот самый тип. Меня объял ужас, усугублённый тем, что я не могла вспомнить, заперли ли мы накануне дверь, ведущую в коридор. Раньше я не придавала этому значения – кому нужны инфекционные больные без денег и имущества? Но тут ситуация принимала иной оборот. Моё богатое воображение рисовало страшные картины: угрюмый пациент оказывался маньяком – убийцей, скрывающимся в больнице от полиции. Мне виделись громкие заголовки в газетах: «Жестокое убийство в больнице», «Что страшнее – маньяк или герпес?», «Кровавая расправа в палате»… А размеренные шаги за стеклянной стенкой не стихали – бум-бум-бум. И вдруг неожиданно наступила тишина – человек остановился у нашей палаты и, как мне показалось, пытался заглянуть внутрь сквозь прорези в жалюзи.
Я вжалась в стену и замерла от ужаса. Что делать, если неизвестный войдёт сейчас в палату? Остаётся только одно: бежать на улицу через другую дверь с воплями о помощи! Если только моя онемевшая глотка сможет издавать какие-то звуки… Я лежала ни жива ни мертва, повторяя про себя: «Господи, помилуй!
Господи, помилуй!» Но вот шаги послышались опять – на этот раз они удалялись по коридору…
На следующий день, идя вечером по коридору на процедуры, я вдруг увидела, что дверь шестой палаты открыта и палата пуста. Я спросила у медсестры, что сталось с пациентом, и получила ответ, что он был выписан сегодня днем. Я вздохнула с огромным облегчением: после выписки в многомиллионной Москве у меня не будет шансов встретиться с ним вновь! Шаги по ночам больше не звучали, и через некоторое время я забыла об этой истории. А однажды, вспомнив о ней, удивилась своим переживаниям. «Маньяк» показался мне вдруг олицетворением внутреннего Страха, который терзал меня с начала моей болезни – и исчез, растаял, как только что-то изменилось во мне.
Я старалась теперь как можно больше времени проводить в парке, на свежем воздухе, но приближавшаяся осень давала о себе знать едва уловимой сыростью, свежестью ветра, первой желтизной листьев, которые всё чаще ложились к ногам. Как-то побродив по парку, я решила вернуться в корпус, хотя до обеда был ещё целый час. Войдя, как обычно, в палату через ванную комнату, я увидела Лидию Ивановну, неподвижно сидящую за столом, привалившись к спинке стула. Глаза её были закрыты, лицо – спокойно. Казалось, она спит.
– Лидия Иванна, – позвала я её.
Никакой реакции.
– Лидия Иванна, – повторила я немеющими губами и дотронулась до её плеча.
Женщина оставалась неподвижной.
Выскочив в коридор, я побежала за медсестрой. Начался переполох, шум, беготня. Палата наша заполнилась медперсоналом.
Я вышла на улицу, ноги сами несли меня, и я не понимала, куда иду. Она умерла? Да, очевидно… Лидия Иванна, но как же так?! Это нечестно. Вы ведь ещё не рассказали мне, как ваш отец вернулся с фронта и как прошла эта встреча… И что будет теперь с вашим сыном? Сердце моё сжималось от невыразимой тоски. Только что человек был жив – и вот его нет. Казалось, Смерть зримо прошла совсем рядом, и чувствовалось ещё её зловещее дыхание.
Не знаю, сколько я так бродила по парку, терзаемая грустными мыслями, но пора было возвращаться. У входа в корпус знакомая медсестра нервно курила.
– Что, умерла моя соседка? – спросила я дрогнувшим голосом.
Она резко стряхнула пепел в урну и обернулась ко мне.
– Нет, всё в порядке. С ней после процедуры обморок случился. Хорошо, что вы нас вовремя позвали, а то был бы каюк.
Сердце моё запрыгало от радости. Жива! Жива моя старушка! Как хорошо, что я вовремя вернулась – а то мог бы быть «каюк». Получалось, что я вообще торчу здесь не зря, всё мое пребывание в больнице получало таким образом дополнительное оправдание.
Когда я вернулась в палату, Лидия Ивановна сидела на кровати и как ни в чём не бывало ела персик.
– Ну вы даёте! – сказала я. – Напугали меня до смерти. Разве так можно?
– Да вот, отключилась, – улыбнулась она. – Перемагнитили меня, видно, давление упало.
– А что это за доктор ко мне приходил? – спросила она какое-то время спустя, поразмыслив, будто вспоминая что-то. – Молодой, видный такой?