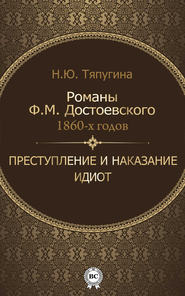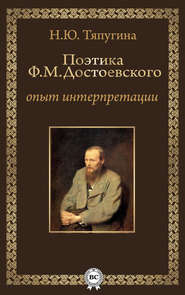По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Антон Павлович Чехов в школе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У него вообще короткая память, что очень удобно при его постоянном стремлении к созерцательному покою; это мастер красивого жеста в литературе и безнадежного эгоизма в жизни. Видя очередную «чайку», он остановится на миг, полюбуется её гибелью, похвалит себя за то, что не поленился карандашиком почирикать в своей записной книжке, заготовив впрок очередной «сюжет для небольшого рассказа». Авось пригодится!
По сути, он рыболов не только в жизни, но и литературе. Погружен в созерцание на берегу жизни. Только это ему и нравится. И очень не хочется, чтобы отвлекали от тихого азарта и побуждали к тому, что, конечно, делать надо, но к чему решительно не лежит его душа.
Кажется, он вообще больше рыболов, чем писатель. От рыбалки – чистое удовольствие: «Поймать ерша или окуня такое блаженство!» В то время как литература – такое хлопотное дело! А между тем – воли нет, душа стала «вялой и рыхлой». Он почти не притворяется, когда говорит: «Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу».
Константин Треплев
Вот здесь развертывается настоящая трагедия. Он сложный, изломанный человек. С детства сложился у него комплекс неполноценности, потому что рядом была блистательная мать, по сравнению с которой он ощущал, что он «ничто», что в её обществе его терпят только потому, что он – её сын. Уязвленное самолюбие доставляет ему истинные мучения: «…когда, бывало, в её гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня своё милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли моё ничтожество, – я угадывал их мысли и страдал от унижения».
И он, видимо, не сильно преувеличивал, потому что мать занята всю жизнь только собой, своими успехами и театром. Между тем, Треплев умен. Он видит то, чего не замечает Аркадина и её окружение.
Он страстно говорит о современном театре как рутине и предрассудке. "Когда поднимается занавес и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрицы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль – мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, – то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью».
Треплев, тем не менее, любит свою мать, хотя с детства страдает от своей заброшенности. Ведет жизнь «оборвыша», живет нахлебником у дяди, а при встречах с матерью неизменно убеждается в своей ненужности и одиночестве. Он одинок не только в бытовом, но и в мировоззренческом смысле. Аркадина, да и вообще – большинство, не разделяют его взглядов на искусство. Между тем Треплев убежден, что нужны перемены, поиск, эксперимент. «Нужны новые формы», а иначе вместо театра будет застывшая рутина, что равнозначно гибели искусства. И он пишет пьесы и повести, стремясь воплотить в жизнь свои принципы.
Пьеса, которую он поставил на деревянных подмостках, где декорацией были настоящая луна и её отражение в воде, – в высшей степени необычна. Он задумал показать, не то, как следует есть и носить пиджак, а что будет на Земле через двести тысяч лет. Спектакль представляет собой монолог Общей мировой души, соединившей в себе души всех когда-то живших на Земле: Александра Великого и Цезаря, Шекспира и Наполеона, последней пиявки.
Представление наполнено торжественной, печальной декламацией и сопровождается необычными световыми эффектами и запахом серы – при появлении могучего противника мировой души – дьявола.
«Это что-то декадентское», – замечает Аркадина. И в самом деле, в творчестве декадентов – приверженцев философии исторического пессимизма – на первый план выходила мысль о бессилии и одиночестве человека, бесцельности и бессмысленности его существования. В пьесе Треплева также ощутимо влияние модернизма и символизма.
Модернизм декларировал бегство от «прозы жизни» в «башню из слоновой кости», т. е. погружение художника в сферы философских абстракций, мистики и грез. Что, по сути, мы и видим в пьесе Треплева.
Атмосфера страха и ужаса в символическом театре (например, в пьесах Мейерхольда) нужна была для того, чтобы всё внимание было сосредоточено на взаимоотношении Рока и человека. И здесь внешнее действие не нужно совсем, оно мешает сосредоточиться на главной идее, которую, кстати, призвана подчеркнуть и символика запахов. Символическую пьесу не столько играют, сколько читают, декламируют.
Как видим, не ошиблась многоопытная Аркадина, пьеса-то, и в самом деле, декадентская.
Это интуитивно почувствовала и Нина Заречная: «В вашей пьесе мало действия, одна только читка». И ещё: «В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц».
Драма Треплева заключается в том, что в своем протесте против традиционных форм, он устремился к принципиально бесформенным абстракциям; не воспринимая как цель искусства изображение быта на сцене, он вместе с ним отринул и все привычные формы жизни, которые, как известно, являются носителями не только обыденного сознания, но и духа.
В письме к Суворину от 25 ноября 1892 года, развивая свои взгляды на литературу и высказываясь о больших художниках, «которые пьянят нас», Чехов пишет: «Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете ещё ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас».
Даже судя по «домашней» аудитории, «большого художника» из Треплева, увы, не получилось. И дело даже не в резкой реакции Аркадиной, у которой с сыном давняя война («Декадентский бред», «демонстрация»; хотел «поучить нас, как надо писать и что нужно играть»; «претензии на новые формы, на новую эру в искусстве» и т. д.). По сути все, кроме Дорна, её не поняли и не приняли. Доктор-оригинал хвалит её за то, за что другие ругают: «Странная она какая-то…»; «Свежо, наивно»… Одним словом: «Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть». И это при том, что конца пьесы он не слышал совсем.
Именно Дорн высказывает одну важную мысль, по сути, предсказавшую творческий крах Треплева. Вступив на сложный путь, где «дышит почва и судьба», стремясь воплощать большие, серьезные мысли, художнику надо помнить, что «в произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас».
Однако мыслитель, этот Дорн! И откуда бы ему знать о том, что питает, а что, наоборот, губит настоящие таланты? Так или иначе, но это предостережение не было услышано Треплевым. Похоже, его неизменно интересует только одно: «Где Заречная?»
Кажется, и писать-то он начал во многом, побуждаемый любовью к Нине. Во всяком случае, когда он понял, что потерял её навсегда, что «одинок и не согрет ничьей привязанностью», – всё, в том числе и творчество, потеряло для него всякий смысл. В сцене последнего свидания с Ниной он прямо об этом говорит: «С тех пор как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, – я страдаю…» «Мне холодно, как в подземелье, и, что бы ни писал, всё это сухо, черство, мрачно».
Он умоляет Заречную больше, чем о любви, он умоляет её о жизни: «Останьтесь здесь, Нина, ‹…› или позвольте мне уехать с вами!» Но Нина не слышит, не слушает его. Она поглощена своим: профессией, несчастной любовью к Тригорину, которая не только не иссякла, но стала ещё сильнее…
Цитируя наизусть пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки…» – Заречная напрочь забывает о тех отношениях, что были у неё когда-то с её автором. Характерна душевная глухота и замкнутость только на собственных проблемах. Когда Треплев признается ей в своей любви, которая одна примиряет его с сиротским, мучительным существованием: «Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни…» – Нина растерянно бормочет: «Зачем
так говорит, зачем
так говорит?» Вот так, заменив живого, страстного Треплева безличным «он» – в разговоре наедине! – Нина полностью отгородилась и от его любви, и от него самого.
А поскольку нет теперь у Треплева ни любви, ни веры («Я не верую и не знаю, в чем мое призвание»), – нет сил и смысла нести дальше свой «крест». Остается только уход. Константин Треплев убивает себя. Как некогда убил чайку. Как и тогда, это был акт отчаяния: тогда пьеса глупо провалилась, любимая девушка презирает его вдохновение, считает заурядным – так получите! «Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног». И теперь: «новые формы» так и не найдены, похоже, и вообще дело не в них, а в том, что «человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души». Вдохновение его никому не нужно (повесть в новом журнале не разрезана ни «соперником» Тригориным, ни матерью Аркадиной). «Как нищий», ждал он ответа от Нины, но «кто-то камень положил в его протянутую руку».
Настоящая трагедия несостоявшейся жизни.
А что же мать? Что же Аркадина? Ведь последние слова Константина – о ней. Он опасается, что мать может увидеть Нину в саду и это огорчит её…
Мать, как прежде, преуспевает. Появившись в имении в сопровождении своей свиты, она даже не здоровается с сыном, а лишь бросает ему: «Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом».
Это Треплев, проходя мимо матери, целует её в голову. А сама Аркадина… затевает игру в лото, в ходе которой рассказывает об очередных своих шумных успехах («Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!»; «Студенты овацию устроили…Три корзинки, два венка и вот…(снимает с груди брошь и бросает на стол)»; «На мне был удивительный туалет…»).
И это актриса, тонкой организации человек! Не чувствует, что с сыном происходит что-то неладное. А ведь он прямо говорит об этом, распахивая окно и прислушиваясь: «Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство». Чувствует он, что Нина где-то рядом, что вот-вот решится его судьба.
И реплика Аркадиной: «Костя, закрой окно, а то дует». Она вообще склонна приземлять всё, что не касается её карьеры. Ведя «свою знаменитость» (это так – о себе!) перекусить, она обещает за ужином ещё раз рассказать о том, как принимали её в Харькове.
Вот почему в ответ на её предложение присоединиться, Треплев кратко, но многозначительно отвечает: «Не хочу, мама, я сыт». Уже и сутолокой, и разговорами, и мамой, с которой провел не больше часа, он сыт по горло.
А ведь речь идет не просто о какой-то ограниченной мещанке. Аркадина, и в самом деле, умна, талантлива и имеет заслуженный, многолетний успех. Треплев прав, его мать – это «психологический курьез». Нервничая перед представлением своей пьесы, он опасается именно реакции матери, потому что понимает: она в первую очередь – актриса. Впрочем, и во вторую, и в десятую, и в сотую… тоже. Константин чувствует, что Аркадина ревнует, что «она уже и против меня, и против спектакля и против моей пьесы, потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит её».
Впрочем, вот тут Константин заблуждается. Не только (и даже не столько!) чувство ревности руководит Аркадиной на представлении, ведь сказала же она после спектакля Заречной: «Браво, браво! Мы любовались. С такой наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!» – и эти слова поддержки были, видимо, не последним аргументом, когда Заречной принималось решение оставить всё и устремиться к новой жизни, отправиться в город, в театр.
Конфликт с сыном по поводу пьесы носит принципиальный характер. В его поступке она чувствует покушение на её искусство, она видит демонстрацию принципов, которые, по сути, перечеркивают всё, что делает на сцене она.
Аркадина и вообще не церемонится со своим сыном, но тут она просто в гневе: «…никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер». И аттестация начинающему автору готова: «Капризный, самолюбивый мальчик». Дальше она называет его человеком не талантливым, но с претензиями. Обзывает декадентом, киевским мещанином, приживалом и оборвышем. И последнее, что она говорит своему покушавшемуся на самоубийство «милому дитя»: «Ничтожество!» «Дитя», впрочем, вскоре прощает и обнимает её, целует ей руки. Треплев – велидушен. И как бы теоретически он ни спорил с Аркадиной, всё равно он любит её и гордится ею. Похоже, он всегда помнит, что его мать – необыкновенный человек: «Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел…» Ну, а что касается недостатков: скупа, ревнива, суеверна, – то у кого их нет? И на солнце пятна имеются!
В «Чайке» мы не видим Аркадину на сцене. Однако о её актерском мастерстве можно судить по эпизоду, в котором она выступает как блестящий мастер импровизации на тему, взятую у Мопассана.
…Второе действие пьесы начинается с коллективной читки книги Мопассана «На воде». Аркадина здесь озвучивает такую мысль французского романиста: «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений…» И хотя Аркадина не согласилась с этим: «Ну, это у французов может быть…» – её личный опыт общения с писателем Тригориным эту мысль, вроде бы, не подтверждает.
Но, когда возникла угроза его потери, когда беллетрист, увлеченный молодостью и красотой Заречной, попросил Аркадину: «Отпусти…» – она вначале растерялась и повела себя как обычная женщина. Она, дрожа, начинает ему отказывать: «Нет, нет…Я обыкновенная женщина, со мной нельзя говорить так…Не мучай меня, Борис…Мне страшно…»
Но Тригорин не сдается. Он знает, что Аркадина может быть необыкновенною. Что она способна на оригинальные и великодушные поступки.
"Аркадина (с гневом) Ты сошел с ума!» -
Тригорин не отступает: «И пускай».
Тогда Аркадина пускает в ход последнее оружие обыкновенной женщины – слезы.
Но и тут Тригорин неумолим.
И вот тогда Аркадина, и в самом деле, повела себя как женщина необыкновенная. Она повела себя как актриса, которой на сцене нужно спасать проваливающийся спектакль. Она так ловко инсценировала мопассановский совет, так зрелищно его исполнила, (стоя на коленях, целуя руки и обнимая колени), что Тригорин и опомниться не успел, как вновь оказался в хозяйских руках. Актриса явно и безудержно льстила, нахваливала его бессмертные творенья, она разыграла такую неземную любовь и глубокое почтение к нему и его писаниям, что полностью приручила взбрыкнувшего было Тригорина. Она так лихо это проделала, что полностью стреножила разыгравшегося беллетриста.
После чего, «развязно, как ни в чем не бывало», она ослабила повода и…разрешила ему остаться, зная наверняка, что безвольный Тригорин уже никуда от неё не денется. Он, конечно, поплелся за ней, и в итоге именно с ней, а не с Ниной, и остался.
Впрочем, тут не только Мопассан помог. Слишком хорошо она знала Тригорина. Не случайно его пламенные просьбы о новой любви вскоре сменились дежурным чириканьем в записной книжке очередной «заготовки» и завершились вполне буднично. Потягиваясь, он уточнил: «Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры».
Сожители, конечно, друг друга стоят. Театральные заламывания рук Аркадиной ничем, по сути, не отличаются от тех литературных штампов, которыми Тригорин описывал свою, вроде бы неземную любовь к Нине: «Мною овладели сладкие, дивные мечты»; «Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез, – на земле только она одна может дать счастье!» и т. д.
Тригорин и Аркадина – хозяева, и, одновременно, рабы своей профессии, которая диктует им стиль жизни, отпуская лишь ту меру реальности, которую они в состоянии переварить. Творчество выстраивает их судьбу, вынося за скобки всё, что мешает ему. В первую очередь, для них важно то, что они пишут и играют. И даже если делают они это технически хорошо, – всё равно во всех их «творениях» неминуемо скажется их «половинчатость», человеческая недостаточность, а потому и – фальшь. Ведь более всего и Аркадина, и Тригорин любят себя в искусстве, не наоборот. Вот почему им бесконечно чужд тот итог, который выстрадала Нина Заречная: «…в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй».