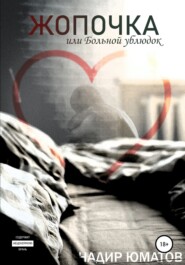По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Папа говорит
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чеши отсюда, поэтесса хренова!
– Эй!
– Писака сраная!
– Отстань!
И бросила в меня карандаш.
Я пинала во дворе лужи. И меня переполняла злость. Но злилась я не столько на мать, преданно не изменявшую своему характеру, сколько на себя, простофилю, застигнутую этим характером врасплох: я поступилась, потеряла бдительность, не нужно было так безмятежно отдаваться занятию письма. К тому же моя ненависть к матери утолилась, еще тем, что отец (судя по гемотомке на щеке) треснул ей как следует, и убедив себя, в том, что это моя собственная месть, пусть и проделанная чужими руками, я вновь проглотила обиду.
Из дома, (будто родители только, что забегали по кругу из спальни в зал, из которого все слышалось на улице) прерывисто стали доноситься мамины вопли, перебиваемые чертыханьем отца. Тому, что они там носятся как угорелые, еще свидетельствовал сотрясающий помещение топот. «Ничего необычного – подумала я – снова дерутся. Будет знать, как на меня рявкать».
Чтобы не подхватить геморрой, я подушечкой сложила перчатки на покрышку от трак-тора и уселась на них сверху, свесив между коленями голову. Нельзя объяснить, что на уме у человека, которому скучно до такой степени, что он просто садиться куда-нибудь и ни о чем не думает. Я не о чем не думала. В лужице у моих ног, медленно вихрилась, какая-та опилка и все из чего я состою было сосредоточено только на ней.
Но вскоре, мое оцепенение рассеяли странные прикосновения в правом боку. Дурацкая курица. Из кармана выглядывал белоснежный кончик гусиного крыла, а та видно хо-тела защемить его клювом и выудить.
– Цыц. Пошла вон, поэтесса хренова – она молниеносно порхнула и медленно приземлилась как парашютист, затем подражая своим собратьям, двинулась бездельно сновать по двору. В доме как будто бы что-то стукнуло. Я на секунду отвела глаза и тут же ее поте-ряла. Удивительно, как это отцу удается знать поименно этих белых, абсолютно одинаковых, птиц? Наверняка он привирает, говоря, что способен их различать. Хотя… та, что у забора в отличие от других имеет довольно-таки впечатляющий гребень. А вон той вот, что на самом припеке… точно… словно прихлопнули голову и выдавили на макушку розоватые брокколи. У третей, цунами закрученный хвост. Четвертая, как-то, вроде по-особенному ходит… так вот в чем дело.
Я насчитала 16 кур и у каждой высмотрела особенность, по которой можно ее отли-чить. У одной курицы нашлось даже две: тщедушное тельце и чересчур пушистые ножки… Но забавы на этом, к сожалению окончились.
Чувствуя, как скука вновь протягивает руки, я вытащила из кармана два белых крыла и принялась, поглаживая рассматривать их. Белые крылья. Даже идеально-белые крылья. Думаю, что белый цвет придумали, взглянув на белые, гусиные крылья. Нежные перья. Все портят только чернеющие косточки, похожие на набалдашники, но если зажать их в кулаки будет даже незаметно. Вот так. Я встала, дважды махнула как птица руками, запрокинула голову и, разрезая крыльями воздух, закружилась на одном месте. Одновременно со мной закружилось и солнце только в обратную сторону. А потом, закружилась моя голова. Покачиваясь как пьянь, взмахивая крыльями и смеясь как сумасшедшая, я ринулась к близстоящей курице.
– Держись писака сраная!
Она побежала по всему двору и примагнитила к себе целую кучу этих белых сверху и грязных снизу пушков с гребешками, кучу которая распадалась стоило мне только нагнать ее, но потом словно по волшебству опять собиралась в одну неконтролируемую кучу и удирала-удирала-удирала до бесконечности. Бегая за курицами, размахивая гусиными крыльями, я представляла себя царицей королевства орланов, и казалось ничто, не может помешать мне, наслаждаться этой новой, только что придуманной мною игрой… казалось – ничто.
Но вдруг, мой внутренний голос повелел мне остановиться и обернуться. Я уставилась на входную дверь нашего дома как на коробку с сюрпризом, откуда-то зная, что вот-вот, с секунды на секунду она откроется. Так и случилось. Дверь распахнулась, точно от взрыва. В этот же миг я увидела мать, она выбежала в джинсовых шортах и топике: а для второй декады сентября – это считай голышом. Она куда-то спешила, но поскользнувшись на крыльце, ничком сверзилась в лужу и громко запищала. Теперь было не различить, где на ее теле грязь, а где отцовские отметины, типа синяков и ушибов, которые, сколько себя помню, всегда «украшали» ее тело, как татуировки.
Из кухни, вслед за маминым писком, раздался детский плач. А затем, когда мама перевернулась на спину, прямо в носках выскочил отец:
– Ты думаешь, они тебе чем-то помогут конченная мразь? – заорал он.
– Ты сядешь тварь! – отчаянно вскрикнула мать, за что тут же и поплатилась.
Спустя считанные секунды осыпавшихся ударов, ее ноги перестали брыкаться и выпрямились, между ногами отца. Он смекнул, что жертва больше не в силах сопротивляться и согнулся еще ниже, чтобы удары стали более увесистыми и точными. Не возьмусь решать: дышала она в этот момент или уже нет, но уверено могу сказать – была без сознания, потому, что никак не реагировала на боль. Когда папа, круговыми движениями кисти, наматывал на свою ладонь ее испачканные кровью, темно-русые волосы, я совсем опустела и не понимала, что вообще происходит – просто стояла как вкопанная. Сжимая вытянутой рукой моток волос, другой он наносил глухие удары в весок, челюсть, переносицу; периодически отставлял назад ногу и наотмашь бил в подбородок:
– Тварь мусарская! – впервые от начала избиения заверещал отец.
Затем, крутанув кистью, он подсобрал, ускользнувшую за время побоев часть волос и неожиданно поволок мамино тело в мою сторону – обездвиженное, грязное, мокрое, с окровавленным лицом и червлеными на топике пятнами. Глаза у него были мутные как запотевшее стекло, и только теперь я подумала, что он пьян. Ужасно испугалась: вдруг он сейчас проделает со мной, то же самое?
Мои пальцы разжались, и крылья выпали из рук. Первое, что пришло в голову: быстро, только непонятно еще каким способом, взобраться на покрытую шифером емкость, спрыгнуть, к соседям во двор и там ¬уже – будь что будет. Но когда я оценивающе посмотрела на эту железную махину, план покорить ее, моментально рухнул: даже в такой жизненно-важной ситуации она оказалась для меня слишком высокой. Я съежилась: пусть будет, что будет, тогда в этом дворе. До моего избиения отцу оставалось три-четыре шага. Он шел плечом вперед, с покачивающейся со стороны в сторону как часовой маятник, рукой. Мама тяжело скользила за ним по грязи, словно груженые сани по снегу. Лязгнула щеколда. Рожденные и проживающие в деревне хорошо знают, что все щеколды издают разные звуки, так же как по-разному лают собаки. И это была щеколда нашей калитки. Появилась надежда. Над папиным плечом, на заднем фоне всполохнула, золотистая точка, которая мгновенно засияла кокардой под вздыбленной тульей полицейского. «Все-таки вызвала» догадалась я, глядя на бездыханную мать. Испытала радость, какую испытывают потерявшиеся на необитаемом острове люди, увидев на горизонте корабль плывущий в их сторону. За мужчиной вошли, еще двое в таких же темно-синих фуражках, мундирах и брюках.
Не выпуская из руки маминой пряди, отец остановился, посмотрел на «гостей» через плечо и ухмыльнулся. Ну, точно пьян, подумала я – так дьявольски ухмыляться могут лишь пьяные.
Один из полицейских подошел ближе, кусочком посмотрел на меня, и перебросив взгляд на мамино тело кивнул:
– За что ты ее так? – задал вопрос ровно и равнодушно, не поведя бровью, как настоя-щий, доблестный полицейский.
А папа улыбается ему и говорит:
– Сама виновата.
К.О.Н.Е.Ц.