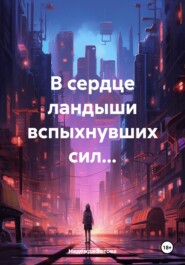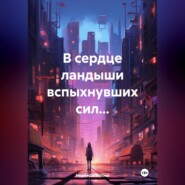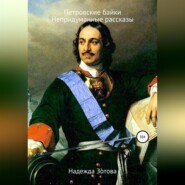По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петровские байки и непридуманные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Здоров ты, Алексашка, другим в уши заливать, – усмехнулся царь Пётр. – Тебя послушать, так агнец небесный, а на деле-то я, чай, со счета сбился, скольким девкам да бабам ты юбки задирал. Знаю я натуру твою кобелиную, а тут ишь лазарем каким поет! Ты, Антип, его не слушай, представляй историю свою дальше.
– Вот ты так всегда, мин херц,– обиженно надулся Алексашка, – а я токмо для его пользы старался. Уму-разуму учил. Опять же и ты… – он запнулся, чуть было не сказав «государь», – и ты не святой, сколь раз одним грешком попутаны!
– Ладно-ладно, – неожиданно расхохотался царь, – однако же ври, да знай меру! Да язык за зубами покрепче держи, дела да и грешки наши с тобой уж больно многим не по нутру. Ты про это помни.
Антип растерянно и настороженно слушал их перепалку, поочередно переводя взгляд с одного на другого. Было видно, что он струхнул и уже не рад своему знакомству.
– Что, Антипушка, испугался? – Желая успокоить купца, спросил царь и ласково похлопал его по плечу. – Ты не бойся. Это я так Алексашке… Он, сучий пес, хвастать горазд, особливо, как винца попьет. Вот я и осадил его малость. А ты сказывай дальше.
Антипка-то хоть и молод был да и выпивши сильно, а смекнул, что не больно простые люди перед ним, хоша и назвались купцами и по виду вроде ему ровня. Царя-то Петра Ляксеича, он сроду не видал, а от отца-то слыхивал, что царь росту огромадного и с ним везде главный его помощник мужицкого роду, а по званию выше всех именитых бояр. А тут, батюшки свет, сидят прямо перед ним два мужика: и один, как коломенская верста, а другой, вертлявый, ровно бес, перед ним крутится.
– Что это ты выпучился на нас? – Желая загладить вину перед царем, цыкнул Алексашка. – Дальше давай про Акулину свою рассказывай. Да не бойсь, не бойсь, вреда никакого мы тебе не сделаем, а пособить можем, коли что. Так что сказывай давай! – И он лихо подмигнул Антипу.
У Антипа от сердца отлегло. «Мало ли что спьяну померещится, – думает, – мало ли здоровенных мужиков в Россее. Только царю и дела, что по кабакам шляться да водку пить. Вона, и ручищи-то у него в мозолях да в копоти, нечто у царей так-то бывает!». И это совершенно успокоило его.
– Легко те лаяться, когда не тя касается, – огрызнулся Антип Алексашке, окончательно осмелев. – Знамо, чужую беду рукой разведу, к своей – ума не приложу. – Он сердито посмотрел в нагловатые насмешливые глаза Меншикова. – Акулина Карповна и в девках была загляденье, а в бабах еще пуще расцвела. Глаз отвесть невозможно. Оттого Сила-то и бесился. Мужики-то окрест только языками щелкали от зависти, да зря все. Маменьке-то меня жаль, конечно, да что делать-то? Поплакала она сколько-то, погоревала да и говорит: «Положись, голубок, на бога, он тя не оставит. А пока пусть все идет своим чередом. Коли это твое, никуда от тебя не денется». Так и порешили и уж боле об этом не разговаривали. Только радость с маменьки сошла, тихая такая стала, будто мышка.
Зима меж тем кончилась, занялась весна. Дружная такая, ранняя. Известно, купцы все, как муравьи, в своих дворах да лавках, а тут весной и подавно. Торговый люд, только успевай поворачивайся. Вот и мы так-то с маменькой – все в работе кипим. Свадьба на носу да прочие заботы – так наробишься, что едва до подушки доползешь, глядь, а уж спишь непробудно. Наступила Пасха, Пресветлый Христов День. И пошли мы с матушкой, как положено, в церковь. Глякося – и Сила тож с Акулиной Карповной своей идет. Сердце во мне захолонуло все: ни жив, ни мертв иду. Да и маменька лицом побелела. Поравнялись мы, христосоваться зачали. Сначала Сила с маменькой да со мной, потом уж Акулина Карповна. Поцеловалась она с матушкой, на меня глаза подняла. А из них так искры и сыпятся, словно кто там внутри огоньки зажигает, и сама она так жаром и пышет. Я стою, как чумной, а ей смешно – знай себе заливается, будто колокольчик, хохочет. И загорелось во мне ретивое пуще прежнего! Будь что будет, думаю, а где-нигде добуду ее себе. Матушке, конечно, ни гу-гу про это, итак уж я ее огорчил. На Пасху, известное дело, пей-гуляй народ. А у купцов-то особенно. Кажинный себя пошире показать хочет, спьяну-то очинно дурь любого видна. Тут те и мордобой, и самохвальство безбожное, и все, что ни на есть глупого в человеке выявляется. Иные под пьяную руку лезут, чтоб самим чем поживиться, либо вызнать чего да мало ли… Бывает, так зеленой хватят, память начисто отшибает. Ничего не помнят: где гуляли, с кем были и куды такую прорву деньжищ дели, наголо пропиваются. Вот таких-то дурачков Сила и обдирал. Сам-то он почти не пил, так только пригубит да поставит, а другого-то подпоит да в душу ему ужом и вползет. И уж коли что выведает потайного у человека, тут ему и удавка на шею, не даст жизни. И словно паук, будет высасывать того человека, пока до последней капли не высосет. Батюшка покойный хоть и не робкого десятка был, а с Силой сроду не связывался, опасался его и дел с ним никаких не имел. Другой был человек, не чета Силе-то, уважали его купцы.
День-то тот прошел-прокружился. По гостям да по будущей родне так находились, впору ноги рубить. Опять же выпили, как водится, разомлели и спали, словно убиенные. Только в ночь зачали к нам стучать, что ни есть мочи. Спросонку-то да выпивки не сразу и в толк возьмешь, что стряслось. А на улице – шум, крик, вопли. Мы в окошко-то – зырь, а там народ бегает, орет, и кто с чем – с ведром, с лоханью – Сила горит!
Накинул я что ни есть на себя – и туда. Смотрю, возля Силиного двора толпа огромная, а уж дом его вовсю занялся. Акулина-то Карповна стоит среди толпы не колыхнется, зато Сила орет, что есть мочи, чтоб добро-то его спасали. Однако ж охотников не нашлось в огонь лезть за Силу, жисть-то дороже. Некоторые, кому Сила напакостил дюже, радовались даже, вслух лаяли шельму. Так он все сам бегал в избу горящую, понатаскал, что смог, видать, и деньги уберег, да только и тут его жадность сгубила. Уж навовсе все загорелось. Лей не лей – толку мало, а он все в огонь бегает. Мужики-то, было, схватили его, да куда там! Будто взбесился Сила! Честит всех последними словами. Ну, и плюнули мужики. «Пущай, – говорят, – лезет, кровосос проклятый, коли лается по-собачьи да добра знать не хочет!». Сила-то и рванул от них в горящий дом. А тут как затрещало все… Сгорел Сила… заживо… – Антип замолчал и опять перекрестился. – Хучь и худой он человек был, – сказал он, – однако ж хрестьянин, и бог ему судья.
– А что ж Акулина Карповна твоя? – Нетерпеливо спросил Алексашка, – неуж не жалко мужа-то было? Всежки два года прожила с ним. А то, может, она того… двор-то спалила? Кровь-то молодая играет, а ходу нет. Вот она и…
– Господь с тобой, – замахал Антип на Алексашку руками. – И думать такого не моги! Нечто Акулина Карповна на душегубство способна? Что ты! На Силу зубов, будь здрав сколь было. Он людей-то не жалел, вот кто-нибудь из обиженных и отомстил. А ты такое… Акулина Карповна будто каменна стояла, не крикнула даже ни разочку. Бабы вокруг воют, голосят, а она стоит белым-бела, не шелохнется. Шутка ли в такой божий праздник покойник. Однако ж, кому горе великое, а мне, прости ты меня, господи, радость большая. Ведь свободной стала моя Акулина Карповна, и вспомнил я тут матушкины слова. Значит, думаю, точно она моя суженая. Так матушке и заявил, жениться на другой наотрез отказался. «Теперь, – говорю, – препятствия у меня нету и кроме нее жить ни с кем не буду. А что до другой, то пусть простит меня, за то и ей судьба выйдет, а не простит, то бог с ней. Теперь у меня одна дорожка – к Акулине Карповне. Так тому и быть!».
Что уж бабьего крику было на мою голову и не перескажешь, – продолжал Антип. – Однако кое-как все утихло. Туточки и зачал я приступать к зазнобе своей. Она, вишь, погорелица и баба, без мужицкой пособки тяжело одной, ну, я вроде и наладился в подмогу. Да не тут-то было! Смекнула она, поди, к чему дело идет, и так ласково мне говорит:
– Ты, Антип Тимофеевич, особливо не утруждайся со мной. В подсобку-то мне и батюшка и братья будут, а ты уж в своем дому хозяевуй.
Меня как кипятком обдало. Вот, думаю, и сунуться не успел, как огрела. Вот те и молчунья-праведница! Родня быстро приспела, за дело дружно взялись. Да с деньгами-то чего не сладишь – быстро все поправили: и дом и подворье. Отец-то с братьями хотели опосля ее под себя подмять, да куда там! И им от ворот поворот дала. Так, не стесняясь, и бухнула: «Хочу, – мол, – сама на воле побыть и полной хозяйкой всему стать!». Мужики-то рты пооткрывали от такого оборота, однако ж, что сделаешь. Она здесь всему голова. Отец-то уж дюже сильно осерчал, никак не ожидал он, что дочка его так бортанет.
И села она самостоятельно хозяевать. Старуху ту, что доглядывала за ней прогнала, иных других сменила, закомандовала. Пошло дело-то у нее. Видать, не просто мужний хлеб два года ела, разумела купецкому делу. А чего не знала, спрашивала, не стыдясь, с поклоном: научите, мол, добрые люди, подскажите, что да как.
Купцы-то даром, что вдова, валом к ней валили. И собой-то она хороша, и при деньгах, и в деле купеческом разумница. Только никому ничего не обломилось. Посмеется она над очередным кавалером да и отмахнется от него: не желаю пока замуж – и все тут!
– Я, чай, мужики ей попадались сопливые да квелые, – досадливо поморщился Алексашка, – у меня бы уж не увернулась, язви ее в душу! Я б ей с ходу бы подол задрал – и поминай, как звали! Сама б посля за мной бегала, не то, чтоб в отказе быть.
– И то правда, – вмешался царь, – с чего это баба возгордилась так? Всегда у мужика верх должен быть, а она вас, как сусликов развела. Бабья натура кривая, знай это. А ты свою линию гни, не отступай! Раз задумал – добивайся!
– Дык, если б просто так к бабе ходить, так чего ж легче. Подарок какой или деньгу, она и сама побежит. Добра-то такого хоть отбавляй. А тут другое дело. Как увижу ее, руки-ноги холодеют и язык, окаянный, не ворочается совсем. Как немтырь делаюсь, и в такую робость при ней вхожу, что хуже дитяти малого. И через эту свою дурь ничего путного сделать не могу.
– Тю-ю-ю-ю, -присвистнул Меншиков, – да он, мин херц, втюрился совсем. Жаль мне тебя, – он положил свою руку на плечо Антипа и громко по-жеребячьи заржал. – Я эти штуки их бабьи знаю. Чуть почуют, что нравятся, и начинают пляски-сказки выказюливать, – он выразительно покрутил руками, – глазки строят, губки дуют и прочие свои бабьи небылицы обнаруживают. Сатанинское отродье, эти бабы, мороки с ними!
– Не бери греха на душу, Данилыч. – широко улыбаясь и блестя черными глазами, проговорил Пётр, – тебе ли на баб злиться? Уж ты ли не охоч до женского пола и разве не в фаворе у них? Где кобелю ни сучка – там и случка! Сколь их у тебя перебыло – счета нет. Ему ли с тобой и равняться, блудник превеликий. Он-то пред тобой – дитя неразумное.
– Что ж, мин херц, – смутился Алексашка, – я от того не отказываюсь. И я баб любил, и они меня, да и с тобой не раз грешили вместе, но уж чтобы заробеть перед бабой, как он, ни в жизнь!
– То-то, что ни в жизнь, – опять загоготал царь, – мы с тобой кобели старые да битые, а он-то еще щенок, что с него возьмешь? Мы с тобой того навидались, иному и в десять жизней не одолеть. А он чего коло мамкиного подола навидался? Нечто с нами сравнить! Нам, что ни хошь – все наше, а тут другая политес нужна.
Антип обалдело глядел на новых знакомых, смачно вспоминающих свои недавние приключения. Их лукавый настрой одновременно смущал и ободрял его. Он вдруг внезапно почувствовал в себе ту первородную мужскую силу, которая исходила от этих игривых под хмельком мужиков. И он, после стольких лет безнадежности, словно молодой дуб, налился соком мощности и задора, который бушевал в их жилах.
– Что же, – сказал он, подвигаясь поближе к ним, – с какого ж боку к ей подступаться? Нечто хитрость какую удумать али что?
– Экий ты медведь, Антип, – досадливо махнул рукой Алексашка, – только время зря потерял. Сказано ж тебе, надо было… – и он, сжав кулак, потряс им в воздухе, – …ухватить так, чтобы не вырвалась, а ты «боюсь, робею»! Э-э-э! Тюфяк, ей-богу!
– Да я что, – Антип покраснел до самых волос, – я ж и сватов засылал, чтоб по-сурьезному, как у людей. Токмо все едино: не пойду, потому как вольной хочу быть. Да не то что мне, и другим тож от ворот поворот. Хочу быть хозяйкой во всем – и конец!
– Да, видать, твой Сила не расшевелил бабу-то как следует, – заливисто и громко захохотал царь, – слышь, Алексашка, она, поди, и не распробовала, что к чему! – Он подмигнул Меншикову, и теперь они оба принялись громко и безудержно гоготать, то и дело переглядываясь друг с другом.
– Вот те и Сила, – ржал Алексашка, – только где и в чем? За два года баба так и не поняла, что к чему, оттого и кочевряжится. Нечто б без мужика-то при достатке долго утерпела? Да не в жизнь! А так, при дедовом мочале и охоты нет заново начинать! Тут как бы кобылку опять объезжать не пришлось!
– Ох, Данилыч, – вытирая слезы гоготал царь, – ядрен ты на язык! Ведь как, сучий пес, скажет, не в бровь, а в глаз! Ты, Антип, на ус мотай. Он, вражья сила, думаю, соленую правду-матку тебе режет. Так ты уж не взыщи, что она у него не мыта, не чёсана!
Антип, красный и потный от стыда, сидел, как ошпаренный. Было обидно за свою неловкость, робость и неопытность, и он уже жалел, что так открыто доверился этим двум незнакомым купцам. Их хохот и насмешки поднимали в нем ярость и глухую звериную злобу, готовую выплеснуться прямо сейчас на эти лоснящиеся самодовольные рожи.
– Ну-ну, – первым заметив наступившие в нем перемены, проговорил царь. – Уж и обиделся, уж и в драку готов! Не горячись, купец Антип! Не серчай на нас. Мы без злобы к тебе, а что смехом, то больше себя вспоминали, про что тебе еще и неведомо, поди. Вот оженим тебя на твоей Акулине Карповне да поживешь ты с ней годок-другой, так, может, и нас вспомнишь со смехом, поразумев-то всего. А пока не серчай, не надо… – Он ласково погладил Антипа по голове.
– Как же, ожените, – огрызнулся Антип. – Счас от стола встанем – и поминай, как звали. Вы – в свою сторону, я – в свою. Только что и памяти, что над дураком посмеяться. Вот, мол, простофиля какой, раскорячился по пьянке, широка душа!
– Ты, купец, играй да не заигрывайся! – Вскочил царь Пётр и так вдарил по столу кулаком, что чарки подпрыгнули. – Сказано, оженим, значит, так тому и быть. То ты сватал, а то я посватаю. Пусть мне попробует откажет. Сей момент беги к матушке своей, скажи, что сватать пойдем Акульку твою. Да сюда возвращайся, жди нас. А мы уж скорехонько поспеем с Данилычем, нам только другое чего для такого случая надеть, чтоб жениху не стыдно было. Да смотри, чтоб все чин чином было! За то с тебя спрошу! Ну, Данилыч, поспешим, время не ждет!
Антип ни жив, ни мертв обалдело таращился на своих знакомцев. И огромный рост, и голос, повелительный и властный, и горящие огневым цветом глаза этого великана, заставляли подчиняться ему беспрекословно.
– Ох, и подвезло ж тебе, черт чернявый! – На бегу прокричал Алексашка. – Быть тебе на Акульке женатому! Делай, как сказано, потом все поймешь! – И он шустро побежал вслед за удалявшимся Петром. – Да шевелись проворней, а то нам ждать не досуг.
Будто закрутило Антипа: как домой шел, как матери в ноги бухнулся – как во сне помнит. Маменька-то в голос, в крик: как, кто, что, откуда? Словно снег на голову, сваты какие-то, да с приказом, да с грозью, да в одночасье. Однако Антип уперся.
Снарядился быстро, одел все праздничное, новое. Матушка прихорашивалась перед зеркалом, разглядывая себя в цветастой кашемировой шали, а на столе лежали петушастые, вышитые красным шелком полотенца, предназначенные для Антиповых сватов. Хмель с Антипа весь спал, будто и не пил совсем, и с бьющимся, словно колокол, сердцем он почти бегом помчался в трактир, боясь, что там его ждут и ужо будет ему за опоздание.
Чад, пьяный гул и духота неприятно ударили в голову. Окинув всех взглядом, Антип успокоился: его новых товарищей еще не было. Он уселся ждать, посматривая на дверь. Проворный половой подлетел, лоснясь сытым круглым лицом. Антип сунул в его руку деньгу:
– Так посижу, дожидаюсь я, иди с богом.
Половой, поклонившись, ловко сунул деньгу за щеку и побежал к другому столу. Время шло, а купцов все не было. Антип взмок от волнения. «Должно, купили дурака, – думал он про себя. – Как мальца, вокруг пальца обвели. То-то смеху им счас! Да и матушка ругаться зачнет, чем оправдаешься? Одно слово – дурак!».
Он уже было хотел уйти, как дверь отворилась, и вошли двое. Нет, не купцы, не какие другие люди – а в дорогих платьях, при шпагах и с лентами через плечо, улыбающиеся и румяные – Антиповы знакомые. На головах их были треугольные шапки с перьями, и оба они имели вид геройский.
Трактир притих. Мужики и хозяева сидели, разинув рот. Казалось, муха пролетит – и то слышно будет. Антип обомлел, сидит слова вымолвить не может. Слыханное ли дело, эки люди, а он с ними запросто. И они-то не фордыбачились нисколько: и про Акулину Карповну слушали и водочку с ним пили, не брезгали купцом простым. Заробел Антип. А Алексашка, пес такой, увидев разряженного Антипа, так и прыснул от смеха.
– Смотри, мин херц, – обратился он к царю, – обомлел от изумления. Ишь, вырядился как, словно петух сахарный, так что ждал, значит. Со страху-то помер что ль? – Захохотал он, обращаясь к Антипу. – Поклонись государю, дурья твоя башка, чай, не видишь, царь перед тобой, сам император Пётр Алексеевич! Вот в сваты-то кто тебе набился, тут уж промаху не будет!
– Да как же это? – Промямлил Антип. – Да нечто можно, что сам царь? – И боязливо глянул на Меншикова. – Прости, государь, коли что не так. Мы по-простому, как на душе лежит, не гневись за глупость нашу.
– Что ж так сробел, – улыбнулся царь, – или страшен я так? Давеча мы с тобой по-приятельски говорили, коли обещал пособить, так что ж, я слово свое держу. Ты, вон, и Данилычу поклонись, без него нам не справиться, – он подмигнул Меншикову, – правая рука моя во всех делах, уважь и его.
– Так, стало быть, это Меншиков сам? – Ткнув в сторону Алексашки пальцем, спросил Антип. – Слышно, бывший холоп боярский?