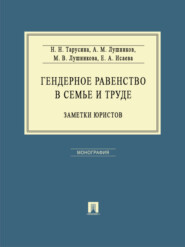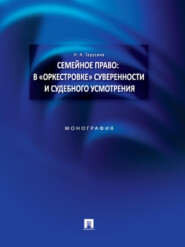По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гендер в законе. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
.
* * *
Лингвисты размышляют о гендерной асимметрии, гендерных стилях общения. Многие лексико-грамматические структуры языка отражают одну из тенденций патриархической культуры – отождествлять «мужское» с «человеческим», а «женское» – с особенным, специфическим (включая термин «женская логика»
и т. п.). Все это создает определенный психолингвистический эффект и активно кодирует как мужское, так и женское сознание. (Отсюда – известные требования «непримиримых» феминисток создавать мужские и женские варианты ключевых слов нашего бытия
). Впрочем, здесь не все прямолинейно: даже в сфере идеологии ряд важнейших обозначений имеют именно женское начало («Родина-мать», Россия, вера и т. д.)
.
Введено понятие «гендерлекта» (по аналогии с понятием «диалект» и т. п.). Высказаны как радикальные точки зрения («гендерная речевая коммуникация строится на принципах мужского доминирования и женского подчинения»), так и умеренная, реалистическая («гендерлект – существует как социальная и лингвистическая реалия нашей жизни»)
. Научные факты, пишет К.С. Шаров, позволяют утверждать, что мужчины и женщины действительно используют совершенно различные коммуникативные стили, обладают «различающимися наборами норм речевого взаимодействия, прибегают к разным грамматическим и фонологическим приемам», образуют (в этом смысле) разные речевые сообщества
.
Н.Л. Пушкарева обращает внимание на фольклорную составляющую гендера, в частности российского. И он (фольклор) вопиюще дискриминационен, что и демонстрируется на примере анекдотов о женщинах-ученых. Так, в связи с активизацией женских научных организаций (Союза женщин МГУ, союзов женщин-математиков, физиков и т. п.), «андроцентричная» культура вбросила в обращение анекдот, «призванный обесценить способность респектабельных женщин-ученых, обладающих активной жизненной позицией и готовностью становиться глашатаями феминистских идей, объединяться»: «Резолюции Всемирного женского конгресса. 1) Все женщины – сестры! 2) Все мужчины – козлы! 3) Надеть совершенно нечего…»
И еще: «Кажется, до 40 лет женщины активно занимаются сексом, а после 40 – гендером». «В данной фразе, – комментирует Н.Л. Пушкарева, – не только сексизм и имперсонализация (всех женщин «до 40» и «за 40» объединяют без каких бы то ни было различий и особенностей), но и эйджизм (agism, стремление унизить женщин «после 40» – а ведь именно в этом возрасте наиболее активные из женщин и достигают наибольших профессиональных высот)»
. И еще: «Чем отличается хорошая аспирантка от очень хорошей? Хорошая каждое утро говорит: «Доброе утро, господин профессор!» А очень хорошая нежно шепчет на ухо: «Уже утро, господин профессор!» И т. д. и т. п. В итоге автор совершенно справедливо заключает, что и в околонаучном фольклоре, и в ряде других информационных источников активно присутствует «гендерное неравенство, механизмы воспроизводства которого скрыты в обыденной речи и понимании смешного»; эти источники подтверждают: «проблема «обыкновенного сексизма» – отнюдь не выдумка феминистской антропологии, везде ищущей гендерной асимметрии, но, к сожалению, еще одно из проявлений интолерантности в современном российском научном обществе»
.
В гендерном контексте исследуются и другие филологизмы, например, так называемая инвективная лексика, включая «сексуальные» ругательства. Так, И.С. Кон выделяет четыре блока: отправление ругаемого в зону женских гениталий; намек на сексуальное обладание матерью ругаемого; обвинение в инцесте с матерью; обороты речи с упоминанием мужских гениталий – с помещением ругаемого в «женскую» сексуальную позицию. Вопреки распространенному мнению, замечает автор, русский язык, хотя и богат «матерными» выражениями, но отнюдь не уникален; при этом «самая залихватская матерщина» (в том числе «трехэтажная») не являлась и не является по общему правилу оскорблением, вызывает обиду, только если произносится серьезным тоном
. Однако в любом случае она определенную гендерную специфичность русского языка иллюстрирует.
* * *
Совершенно особенные контексты взаимодействия обнаруживаются в паре «гендер – религия». Господь, как известно, мужчина. Ева «сработана» из ребра Адама. Изгнание этих библейских персонажей из рая произошло не без участия женщины. И т. д. Ангелы, хотя и не имеют пола, являются нам в мужском образе и с мужскими именами. «Посланники Бога на Земле, – констатирует Симона де Бовуар, – папа, епископы, у которых целуют руку, священники, которые служат мессу, читают проповедь, перед которыми становятся на колени в тиши исповедальни, все они – мужчины»
.
«Мужчине, – продолжает автор, – выгодно утверждать, что Господь возложил на него миссию правления миром и составление необходимых для этого законов»;…очень удобно, чтобы женщина считала, что такова воля Всевышнего; «у евреев, магометан, христиан мужчина – хозяин по божественному предписанию; «…Благословен Господь Бог наш и Бог всех миров, что он не создал меня женщиной, – говорят евреи на утренней молитве, в то время как их супруги смиренно шепчут: «Благословен Господь, что создал меня по воле Своей»
.
На протяжении тысячелетий, пишет С.В. Поленина, форма проявления патриархата, хотя и претерпела изменения, по сути, осталась прежней: «Венцом творения, подлинным представителем рода человеческого, существом, созданным по образу и подобию Бога и поэтому призванным быть господином, носителем власти, демиургом, творцом, хозяином во всех сферах жизни, включая семью, рассматривался и рассматривается многими и поныне только мужчина»
.
Современная тенденция полуофициального идеологического «сращивания» церкви с государственной политической машиной возвращает российское общество через православие (почти повсеместно) и магометанство (в соответствующих национальных территориях и диаспорах в других регионах) к идее традиционного женского предназначения, отрицания права женщины распоряжаться своим телом, превращения ее в случае прерывания беременности – в «убийцу» и т. д. Да и констатация представительства Бога исключительно через мужчину-священника (разумеется, теологически обоснованного) отнюдь не способствует осовремениванию, выравниванию гендерной позиции. (Преклонение же перед Богородицей, возможно, является своеобразным компромиссом между очевидным патриархатным способом церковного управления
– с одной стороны, и женским религиозно-подчиненным положением – с другой
). Особенности православного канона относительно регулирования сексуального поведения с периода христианизации Руси и в настоящем времени также имеют весьма яркие образцы (с обоими математическими знаками)
.
Приведенные сентенции отнюдь не призваны усилить ту чашу весов, на которой сосредоточиваются атеистические представления о мире
– они лишь придают дополнительный штрих к портрету гендерной проблематики и акцентируют информацию к размышлению.
* * *
Очевидно, что политический менеджмент и политическая активность в целом в основном маскулинны. хотя «юридически мужчины и женщины равны, – замечает Валери Брайсон, – и женщины теперь могут конкурировать с мужчинами в различных областях деятельности, они делают это на условиях, уже созданных мужчинами»
.
С.И. Голод подчеркивает: переход женщины от подчиненного положения к равноправному «изначально предполагал обязательную мимикрию: мало «победить» мужчин, надо сделать это на их «территории», пропитанной «мачистским духом», признать единственно верным используемые ими методы»
. «Общеизвестно, – пишет М. Арбатова, – что основные решения на планете принимает небольшое количество белых мужчин
среднего возраста, вышедших из среднего класса. Остальные вынуждены жить в мире, увиденном их глазами и существующем по придуманным ими схемам»
. «На редкость популярна, – констатирует И.М. Хакамада, – вечная убогая вариация на тему «женщина и политика – две вещи несовместимые». Класть асфальт? Пожалуйста. Бороздить космические просторы? Пожалуйста. Снайпер, укротительница, военный репортер? Пожалуйста. А в политику – извини. Потому что власть»
.
В то же время, замечает В. Брайсон, с одной стороны, нет никаких гарантий, что увеличение числа женщин в органах власти будет выражать потребности всех представительниц этого пола, включая наиболее обделенных из них
. Так, например, Г. Минк утверждает, что в 1990-х белые женщины из среднего класса в Конгрессе США поддерживали такие реформы социального обеспечения, которые отрицали право матерей-одиночек проводить свое время в домашних заботах о детях, так как они (эти белые женщины) «объединили собственное право на работу за пределами дома с тем, что малоимущие матери-одиночки такие же, как и они, тоже обязаны работать»
. «Тем не менее, – замечает В. Брайсон, – опыт последних лет показывает, что чем больше женщин избираются на политические должности, тем более широкие и типичные интересы они представляют и защищают в процессе принятия политических решений»
.
Эксперты ООН утверждают, что пока число депутатов-женщин не достигнет хотя бы 20 %, законодатели не будут заниматься проблемами детей, 30 % депутатов не станут волновать социальные потребности «второго пола»
. Небесспорные тезисы, в том числе применительно к России: в Госдуме РФ последнего созыва этот процент – 13,5 (предыдущего созыва – 14), а «детским правом», социальными льготами семьи, поощрением демографической политики, включая идею материнского капитала, депутаты вполне предметно занимаются, хотя и недостаточно системно
.
Тем не менее в фундаментальном смысле этот тезис укладывается в общее «ложе» аргументации за гармонизацию (да, что скромничать – за существенное увеличение) представительства женщин в политическом процессе. Так, исследования, проведенные в странах Скандинавии, где уже многие годы активно осуществляется гендерное выравнивание властных структур и рассматриваемая пропорция достигает 40 %/60 % и выше, социально ориентированная политика представлена в значительно больших объемах и эффективном качестве
. В этих странах гендерное равенство стало привычным, традиционным, а именно эту «привычку», выражаясь метафорой Я.Боцман, «следует выращивать, как английский газон, не один десяток лет»
. Более того, по результатам сравнительного анализа 134 государств мира, более высокий уровень гендерного равенства и более конкурентная и развивающаяся быстрыми темпами экономика сопутствуют друг другу
. Следовательно, можно предположить, что речь идет не только о корреляции гендерного представительства в политике с решением социальных проблем, но и иного, стратегического, эффекта рассматриваемого феномена
. При этом в 2012 г. женщины являлись главами 23 государств и правительств мира
. Однако даже если современный темп ускоренного роста представительства женщин в политических структурах сохранится, «зона паритета» (40–60 %) останется недостижимой для многих стран. По оценкам организации «ООН-Женщины» в государствах с мажоритарной системой выборов (при отсутствии нормативного квотирования) показатель в 40 % женщин на госслужбе не будет достигнут и к концу XXI в., а с пропорциональной системой и с применением квотирования этот показатель прогнозируется на 2026 г.
По отношению к проблеме развития демократии и политического участия, отмечает Н.В. Досина, в настоящее время феминистская критика развивает три позиции. Первая – отказ от строгого деления субъектов политики на мужчин и женщин, от активного подавления сходств и конструирования различий, от жесткой дихотомии «гендер или политика». Вторая – признание важности социокультурного влияния гендера на мотивацию политических действий, основы принудительных нормативных механизмов взаимодействия социально-половых групп мужчин и женщин в политике. Третья позиция – всесторонняя оценка процессов социального контроля над обществом со стороны власти