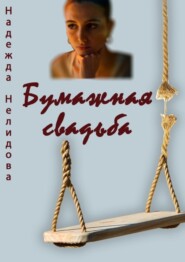По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Назад в СССР
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здоровые мужики, которые бы её одним пальчиком вышибли из кресла, угрюмо сжимали кулаки. Но помалкивали: придерётся к какой-нибудь букве – и будешь завтра опять с зари куковать под дверями. А я с тоской думала: «Быстро же мы возвращаемся в советское прошлое».
Нынче пришли в ту же конторку – а там, где сидела страховичка – стоят автоматы. Никакой очереди! Вбиваешь данные, платишь – автомат добродушно гудит и выдаёт тёплое, свежеиспечённое страховое свидетельство.
А страховички – нет!! Вот будто сквозь землю провалилась! Будто корова языком слизнула. Будто пришёл добрый волшебник, ткнул в злюку волшебной палочкой и произнёс: «Крибле-крабле-бумс!» Или: «Крекс! Пекс! Фекс!».
И она: «Пуф!» – взорвалась, забрызгав всё вокруг, как инопланетянин-головастик в детской компьютерной игре.
Этот добрый волшебник называется – Роботизация. Жаль, автомат недолго проработал, завис и потух.
Выражаясь языком советских газет, мы ещё наблюдаем «отдельные недостатки». Главный недостаток: нас всюду обдирают как липку. Но – заметили? – обдирают осторожно и насторожённо. Сквозь зубы, не от чистого сердца, с видимостью – но уважения!
Чем чёрт не шутит: потихоньку научимся себя уважать – а там дозреем, научимся защищать свои права. Сначала потребительские – а там, глядишь, и гражданские. Москва не сразу строилась.
***
Написала о самоуважении – и беру слова назад. Такой вдруг тоской и обречённостью повеяло от только что увиденной сценки…
Сегодня ехала в автобусе, людей – битком. Принимают немыслимые акробатические позы, чтобы удержаться на ногах и пропустить двигающегося танком кондуктора. Осторожненько нащупывают носком ботинка свободное место, чтобы втиснуть ногу.
Нависают над сидящими, изо всех сил стараясь на них не плюхнуться. Цепляются друг за дружку: до поручней через чужие головы не дотянуться.
В таких автобусах специальное место для кондуктора не предусмотрено. Обычно выделяется одно кресло ближе к водителю и выстилается круглым домашним ковриком из цветных тряпочек. Или швыряется какая-нибудь авоська с замороженной курицей – тоже, считай, территория застолблена. Не влезай (в смысле, не садись) – убьёт!
Иногда приклеивают бумажку: «Место кондуктора не занимать!». Зимой какой-то остряк нацарапал на снежном окне: «В окно кондуктора не смотреть!».
А этот автобус большой. В таких кондукторы облюбовывают для себя два спаренных передних кресла. Чтобы ехать и не касаться простых смертных.
Кондукторша может шастать по салону всю смену. И всё это время, по негласному закону, – сакральные, неприкосновенные кресла будут пустовать. Даже если в автобусе яблоку негде упасть, как сегодня.
Несколько раз я осмеливалась сесть на одно из запрещённых кресел. Кондуктор теряла дар речи от моей наглости. Жгла, испепеляла и ела меня неприязненным взором всю дорогу. Садилась, каждый раз будто ненароком, с ненавистью толкая меня всем телом и кондукторской сумкой.
Кресла были её неприступным, профессиональным троном. Они придавали ей значимость, компенсировали маленькую зарплату и тяжёлую работу. Кондукторское кресло – это и было олицетворение маленькой сладкой власти. А тут какая-то самозванка, Лжекондуктор Годунов…
Но вот входит молодая мама с ребёнком на руках – сама ещё девочка. Народ ради неё идёт на последний героический рывок. Исхитряется совершить невероятные, на грани мистики, телодвижения.
Раздаётся по сторонам, втягивает животы, образуя для них живой коридорчик: вперёд, туда, где места для инвалидов и пассажиров с детьми.
Там уже сидят инвалиды и пассажиры с детьми. Только лучезарно сияют нимбами два незанятых «кондукторских» кресла.
И что вы думаете?! Девочка одной рукой ухватывается за поручень, другой прижимает к себе малышонка. И стоит над пустыми креслами, робко поглядывая, но не смея их занять.
Мы с подругой, за несколько рядов от места действия, машем ей рукой:
– Девушка, что же вы, садитесь! Кондуктор не будет против!
Кондуктор жужжит своей кассовой машинкой. Мрачно, злобно оглядывает нас, столь нагло распоряжающихся её полномочиями. Не говоря ни слова, отворачивается и протискивается дальше в хвост салона.
Девушка так и не решилась осквернить кондукторское седалище. Ребёнок опустил головку на её плечо, как птенчик… Девушка годится мне в дочери. Кто сказал, что народ можно избавить от рабства, водя его по пустыне сорок лет?
О, тут одним поколением не обойтись. Вот и лежащий на плече молодой матери малышок что-то понимает. Смотрит умными печальными глазками, как маленький старичок. Делает выводы, привыкает к смирению. Неужто и из него вырастет маленький рабёнок?
***
Я за свою жизнь настоялась у врачебных кабинетов. Привычна к и к толкучкам, и к драчкам, и к застывшей в анабиозе очереди…
Но когда вижу в толпе юные растерянные лица… Уже заранее покорившиеся, уже понявшие и принявшие систему, как необходимое условие жизни в этой стране… Будто ножом по сердцу. Наверно, эта готовность терпеть передаётся на генном уровне.
Когда они ходили в садик, мы думали, что их ждёт совсем другое будущее, не как у нас. Мы ошибались.
…Шум, оживление у двери. Решительно раздвигает очередь женщина в белом халате, с кипой медицинских скрижалей. За ней табунчик хорошо одетых молодых людей.
В толпе проносится, как унылый шум ветра: «На форум молодёжный, патриотический… Селигер, что ли? Селигерцев без очереди… Это часа на полтора, не меньше…».
Уполномоченные прилизанные мальчики и девочки. Хихикают, прыскают, фыркают.
Вдруг спохватятся, вспомнят, что на них возложена важная государственная миссия… И солидно поджимают губки, серьёзнеют, каменеют (как сказал вождь: «бронзовеют») лицами.
Они ещё не научились, как старшие товарищи, смотреть брезгливо и значительно, сквозь и вскользь, вдаль и за горизонт, в сверкающие дали… В какую-нибудь Пальма-де-Майорка, Фиджи, Белиз…
Фиджи – это потом. А сейчас на холодном комарином Селигере они будут вволю кушать, пить и танцевать. И в перерывах с умными личиками презентовать глянцевые проекты из серии «фантастика».
Больничка бедновата, грязновата, и пахнет в ней… фу! Ничего, скоро юных карьеристов всячески обласкают. Их ждут чистенькие, оснащённые спецбольницы.
Только для белых. Гоу, негры, гоу.
Схема обкатана: спецпайки для себя, Майами для детей, патриотические речёвки (дацзыбао) – для простолюдинов.
Эх, пенсионеры! Чего вам терять, кроме потёртых пенсионных книжек? Ведь вы сила! Воздели бы свои палки и трости, потрясли бы в воздухе старомодными крепкими зонтами, грубо штопанными хозяйственными сумками – да хорошенько прошлись по прилизанным головёнкам. Чтоб, задрав штаны, селигерцы бежали не на дармовые тусовки – а жизни нюхнуть.
Но очередь глухо, мёртво молчит.
***
Блин, блин, блин, ну вот опять! Ну почему у меня вечно, как у того Петровича?! Который, что ни возьмётся собирать: мясорубку там, или детскую коляску – вечно получается автомат Калашникова.
А я, о чём ни возьмусь писать: о «муже на час», о вредной кондукторше или о блохах – обязательно вылезет мерзейшее, богопротивное мурло политики?
От которой! Меня! Уже! Тошнит!!
УЮТНЫЙ ДОМАШНИЙ ВЗРЫВ
Вот как сейчас помню: осень, девяностые. По телевизору показывают фильм-катастрофу, тогда ещё в диковинку. У самолёта срывает обшивку, ветер швыряет горошинами пассажиров и стюардесс…
И тут я ощущаю реальную опасность, которая здесь, рядом. Запах газа из вентиляции. Вентиляция давно плотно заткнута тряпками от соседских тараканов и табачного дыма. Но даже сквозь тряпки несёт кислым, едким запахом.
За стеной живёт маргинальный поэт. Ему единственному, первый и последний раз в истории нашего города, мэр подарил жильё за поэтический талант. Однажды он пытался свести счёты с жизнью посредством отравления газом. Не получилось. Жильцы хотели помочь ему претворить в жизнь задуманное, посредством мордобития – но поэта вовремя увезла скорая.
В соседней комнате живёт 78-летняя бабушка с атеросклерозом. Она ещё ничего, бойкая. Сама себя обслуживает: ходит в магазин, варит суп, ставит чайник. При этом постоянно забывает зажечь под чайником огонь. В таких случаях я бегу в соседний подъезд, звоню, мы с бабушкой устремляемся на кухню. Она каждый раз страшно изумляется, охает, бьёт себя по тощеньким бёдрам…