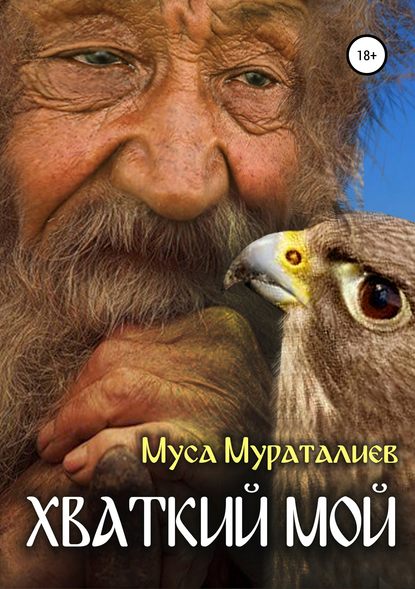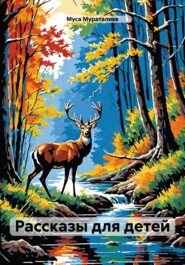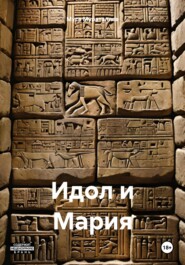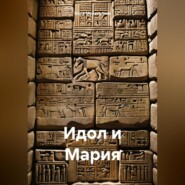По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хваткий мой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С ветки новых деревьев осматривался соколёнок, приходил в себя.
Бояться ему было некого, да он и не знал страха.
Есть ему пока тоже не хотелось: ещё утром, с первыми лучами солнца, мать скормила птенцам целого зайчонка.
Длинноухий отчаянно пищал, вырывался, но удрать не мог: мать не выпускала буяна из своих когтей, а клюв до поры до времени в дело не пускала – братья-близнецы должны были покончить с зайчонком сами.
И, как всегда, первым напал на него он – тот, кто первым оставил затем и гнездо.
Братишка всё метался, подпрыгивая бестолково на дне гнезда, цепляясь коготками за прутья, а он сразу вонзил острые когти в мохнатую мякоть, почувствовал, как им стало тепло; и клюв его раскрылся, застыл, обнажив плуго-образный язычок.
Какой вкусной была эта мякоть, её можно было заглатывать прямо вместе с шерстью!
Но по закону тынаров надо всё же было подождать, пока мать отпустит зверька – полуживого, но отпустит.
Наконец и брат оказался грудь в грудь с зайчонком.
Матери важно было дать своим птенцам возможность ощутить живого зверя, пробудить в них охотничий азарт.
Соколы знают: перед ними, владыками неба и гор, беспомощна, беззащитна вся живность, копошащаяся на земле.
Пусть знают и соколята: лишь им дана сила и власть, лишь им…
В свой первый самостоятельно прожитый день молоденький сел однажды на макушку колкого куста арчи.
Очень неудобно было и непривычно: кисточки-вершинки веток покалывали хвост и брюхо, как ни старался он избегать прикасаться к кусту.
По закону пернатых ничто чужеродное не должно дотрагиваться до тебя.
Но что ж делать?
Бывает, оказывается, что надо теперь потерпеть.
Тут молоденький сходу установил равновесие.
И, не обращая внимания на лёгкие уколы в живот, поднял голову.
И опять заметил он летящего отца высоко в небе.
Тот нёс в когтях какую-то птицу и летел в сторону гнезда.
Молоденький знал, для кого отец старается – всё для того, бестолкового.
Вдруг сильно и остро захотелось свежего мяса.
Да так, что мелькнуло желание напасть на отца, отобрать птицу.
Он даже выпрямился весь, собираясь с духом.
Но отец был далеко-далеко.
И тогда соколёнок неожиданно для себя защёлкал яростно и страстно:
– "Тцок! Тцок!" – чтоб привлечь внимание к себе.
Отец, конечно, видел сидящего на можжевельнике сына, видел – и безучастно продолжал свой путь.
Полететь бы за отцом туда, в небо, показать, что нельзя, нельзя же так быстро забыть его, нельзя, ведь та птица должна быть предназначена и ему.
Рывок, он съезжает вниз, но взлететь не может.
Крылья распластались по можжевеловым веткам, падение затормозилось.
Не с каждого места взлетишь!
Он рванулся было снова, ещё раз, наконец, пособирал крылья, нахохлился и остался сидеть на прежнем месте.
Отца в небе уже не было видно…
С того самого часа, соколёнок понял, что ему жить впредь одному.
Куда прилетел, там и его дом.
Дерево подходящее выбрал, долетел, сел на такой сук, чтоб тело выдержал, да на таком удалении от ствола, чтоб при взмахе крыльям ничего не помешало.
Улетит потом с этого места и сразу забудет о нём.
По закону соколов только то и существует, что находится в поле его зрения, птицы и звери, горы и просторы, небо и земля…
На рассвете молодой тынар проснулся, распушил перья, потом встопорщил кроющие перья – дал воздуху омыть тело.
Так делали отец и мать перед утренним полётом.
Первая ночь в одиночестве оказался прохладней, чем в гнезде.
Рассветный воздух вызвал озноб, и соколик с шумом встряхнулся.
Пособирал одно за другим перья, прижал их поближе к телу.
Ловко приподняв кустик хвоста (не запачкать бы его), выстрелил за ночь застоявшимся сгустком.
И тотчас почувствовал щемящий голод: желудок был пуст.
Теперь молодой сокол мог взлететь в любой миг, даже если его потревожат глубокой ночью.
Соколёнок раз и взлетел в небо!
На этот раз ему легче было находиться в воздухе, чем на дереве, когда наваливалась вся тяжесть тела и цевки, будто прилипают его к сухой ветке.