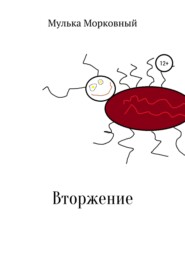По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
День как день
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пациенты поглядывали на него с равнодушным любопытством. Никто особого интереса к новому соседу не проявил. Спустя полчаса все замерло и остановилось, и связанный мужчина, слившись с окружением, выглядел так, будто он всегда здесь лежал, будто сцены с санитарами и криками вовсе не было.
Тем временем подоспел обед. Тележка, лязг тарелок, призывный тон кухарки, голодное оживление, очередь на раздачу порций, металлическая посуда, мутный чай. Сегодняшний обед состоял из невнятного супа с плещущимися в нем грубо нарезанными ломтями моркови и картофеля, из кусочка белого хлеба и макарон с куриными шкурками. Внимательно осмотрев этот гастрономический коктейль и не найдя в нем ничего съедобного, К. почувствовал, что проголодался. Когда утром К. доел вчерашнюю булочку, все его съестные запасы иссякли. В тумбочке остались лишь крекерные крошки и полглотка апельсинового сока. Еду ему приносила мама. Почти каждый день она появлялась в его окне, улыбающаяся, растрепанная, свежая, с увесистым пакетом гостинцев в руках. Она передавала пакет медсестрам, те, проведя фильтрацию и возвратив запрещенные продукты, приносили пакет К. Часто в пакете, вместе с булочками, бананами и соками, лежала какая-нибудь милая записочка, написанная маминой рукой. "Очень скучаю, мой сырок". "Коты дома тебя все заждались". "Я тебя люблю". Трогательные банальности вызывали улыбку и пронизывали тоской, жалостью к себе и еще чем-то неприятным.
Уже третий день мама не приходила. Три дня К. был совершенно один. Срок небольшой, мелкий, ни о чем не говорящий. Мама могла быть занята. Множество бытовых дел и семейных забот забрали у нее все силы и время. Замоталась, забегалась, вот и не пришла.
К. решил, что обедать сегодня не будет. Отнеся нетронутую порцию обратно, он развалился на постели и уставил глаза в потолок. Кухарка хотела было отчитать его за несъеденный обед, но, взглянув на К., поняла, что спорить бесполезно. Пациенты стучали ложками о металлические донья мисок. Столов в палатах не водилось, поэтому каждому из больных приходилось придумывать свою позу для приема пищи. Кто-то ставил тарелки с едой на подоконник, и там, усевшись на тумбочку, сидел, как за барной стойкой. Кто-то в качестве стола использовал саму тумбочку. Стулом ему служил край кровати. Такому приходилось есть согнувшись вдвое. Были и те, кто держал тарелку в руках и ел на весу. Все чавкали и утирали рты рукавами пижам. Стесняться было некого. Правила приличия остались где-то за стенкой, до востребования.
Медсестра созывает на послеобеденный перекур. Пациенты подрываются, хватаются за сигареты и бодрой походкой шагают к туалету. На лицах застыло выражение равнодушной дремоты, возникшее вместе с плотно набитым желудком. То же угрюмое молчание в табачной дымке туалета. То же Мишино кружение вокруг счастливых обладателей недокуренных бычков. К. все также сидел на корточках в углу и, сжавшись в комок, курил, думая о том, почему ему так зябко. Глаза его были закрыты. Одна рука держала сигарету, другая держалась за колючий затылок распахнутой пятерней.
–– Оставишь покурить? – проскулил Миша свое заветное. Детское выражение мольбы и надежды на дряблом лице старика.
–– Что?
–– Оставишь покурить?
–– Почему именно этот вопрос? Почему не спросить, как у меня дела? Или рассказать историю из молодости?
–– Ну-у остааавь! – канючил Миша и, казалось, вот-вот готов был зарыдать или упасть в обморок. К. стало противно. Он никак не мог понять, чего тут больше: проигрывания четко отработанной схемы попрошайничества или голой честности мелкого чувства.
–– Нет, не оставлю. Не хочу.
Миша застонал, нервно почесал заросшую щеку и обреченно огляделся по сторонам, выискивая взглядом тех, к кому еще он обращался со своей просьбой меньше трех раз. Не найдя таких, он уселся прямо на пол рядом с К. Помолчал. Потом сказал:
–– У меня как-то некрасиво дрожат руки… Уже пять лет дрожат.
Больше он ничего не сказал, хотя по лицу было видно, что в голове у него зреет и гниет нечто, чему не добраться до языка.
К. сунул наполовину выкуренную сигарету в венозную Мишину руку, поднялся и ушел.
"Кажется, медсестры стали относиться ко мне куда обходительнее после вчерашнего. Приятно, но раздражает. Возможно, из-за произошедшего меня задержат тут еще на какой-то срок. Ужас. Но мне уже лучше. Гораздо лучше".
За зарешеченным окном шелестят березы, хвастаясь своей новоприобретенной зеленой гривой. Стая голубей клюет невидимые хлебные крошки, рассыпанные по асфальту. Подневольные облака, подгоняемые ветром, лениво ползут по небу. Гроздья воробьев свисают с веток и, хихикая, обсуждают меж собой свои воробьиные дела. За окном весна – лучшая ее часть. Когда почти месяц назад К. вместе с мамой и портфелем, набитым книгами и едой, шел по этой прибольничной лужайке, все вокруг было черным и слякотным. Слезилось небо, струилась грязь по водосточным трубам. Теперь же здесь, нежась в пахучей траве, принимают солнечные ванны уличные коты, коих великодушно и щедро подкармливает больничный персонал. К. смотрел в окно и не верил, что и сам когда-то бывал на улице.
Он лежал на правом боку, прислушиваясь к сопящему носу и чувствуя сильный зуд в районе левой пятки. Недвижимый и молчаливый, он валялся на своей койке, ни о чем не думая и ничего не желая. Пятка чесалась все сильнее. Зуд, распространяясь, поднимался с пятки на щиколотку, с щиколотки на икру. Потом снова сползал до пятки и перебегал вдоль стопы к пальцам ног. К. давно нужно было сходить в туалет, но он этого не делал. Он игнорировал телесные позывы. Периодически открывая глаза, он проверял, не уснул ли. Нет, не уснул. Когда спишь, не бывает так скучно. В больнице сон навещал его неохотно, хотя тот в нем нуждался и всякий раз пытался его призвать. Свет, проникавший в палату через окно, стал тусклым и теплым. Солнце катилось к закату. Подступал вечер. День подходил к концу.
Прибывший утром поросший черным мужчина окончательно прижился. Мужчина лежал на спине, не имея возможности переменить позу. Он все еще был привязан, но казалось, что ему это совсем не мешает. Он без конца бормотал себе что-то под нос, будто заучивая завершающий монолог для любительской постановки. Временами К. поглядывал на него не то с жалостью, не то с отвращением, не то просто потому, что нужно было хоть на что-то смотреть. Иногда ему даже удавалось расслышать, что именно шептал мужчина. Это были фразы из разряда житейских премудростей, ничего на деле не значащих, существующих лишь для удовлетворения желания что-нибудь сказать, когда сказать совсем нечего: "Да, такова уж наша доля", "Ничего уж не попишешь", "Всякое бывает с человеком". Он проговаривал эти слова, как мантру. Проговаривал и как будто успокаивался. Словно, укрывшись стеной нехитрых фраз, он защищал себя от всех неурядиц и хлопот, делался неуязвимым для любых печалей.
Глядя на заросшего мужчину, К. не выдержал и потянулся к ноге, чтобы унять раздражающий зуд. Он принялся чесать пятку так неистово, будто хотел докопаться искусанными ногтями до самой кости. Вдруг что-то мелькнуло. На периферии сетчатки возникло женское лицо, вставленное в раму окна. Мама. Всё-таки пришла. Сильно опоздала. Быть может, ей даже не позволят передать К. принесенные ему фрукты и булочки. Но она пришла. Всё такая же свежая и улыбчивая, челка торчком и ёрзающая рука, пытающаяся её пригладить. К. обнаружил незнакомые морщины на материнском лице. Мама постарела. Как у нее получилось так постареть всего за три дня?
Поймав взгляд К., мама улыбнулась ещё сильнее и приветственно замахала рукой.
– ..риве…ребено… дела? – что-то говорила мама. К. не мог разобрать.
– Чего?
– Привет, говорю! Как поживаешь? – почти закричала мама, и К. почти её расслышал. Он поднял вверх большой палец и приподнял уголки сжатых губ.
– ..ро… …держ.. ..гла…
– Не слышу. – сказал К., указав пальцем на ухо.
Мама принялась рыться в сумке. Отыскав клочок бумаги и ручку, она долго что-то на нем черкала, а затем приложила исписанный листок к окну: "Вчера и позавчера не могла прийти. Сегодня освободилась только к вечеру. Прости. Всё хорошо? Что сказал врач? Люблю тебя".
С трудом прочитав неразборчивую записку, К. улыбнулся с зубами и явно очертившимися ямочками на щеках. Он тихо засмеялся, а потом также тихо заплакал. Плакать было стыдно и неловко, но остановиться К. уже не мог. Он улыбался и всхлипывал. Всхлипывал, тер глаза – и улыбался.
На мамином лице изобразилось беспокойство. К. закрывал лицо руками. Мама говорила через стекло что-то нежное. К. утирал сочащуюся из глаз влагу и смеялся.