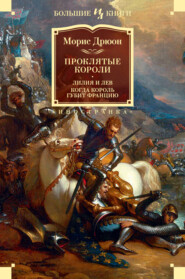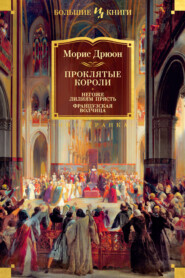По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проклятые короли: Железный король. Узница Шато-Гайара. Яд и корона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Осужденные, неподвижно стоя на самой верхушке костра, уже отрешившиеся от всех земных забот, словно вознесенные в черное небо над черной землей, не отвечали на его заклинания. Они молча, с нескрываемым презрением смотрели на монаха, беснующегося где-то внизу.
– Не хотят исповедоваться, не желают раскаиваться, – прошел по толпе шепот.
Тишина стала еще напряженнее, еще глубже. Монах, бормоча молитвы, опустился на колени. Главный палач взял из рук своего подручного пучок горящей пакли и помахал ею в воздухе, чтобы огонь сильнее разгорелся.
От едкого дыма чихнул какой-то ребенок, но звонкая пощечина тут же его усмирила.
Капитан Ален де Парей повернулся к королевской галерее, словно ожидая знака, и все головы, все взоры медленно, как по команде, обернулись в ту же сторону. И каждый невольно затаил дыхание.
Филипп Красивый стоял возле балюстрады; члены Королевского совета почтительно столпились вокруг него. В неверном свете факелов четко вырисовывались их лица, и вся группа придворных напоминала барельеф, высеченный на башенной стене из розового камня.
Даже осужденные подняли глаза к королевской галерее. Взгляды Филиппа и Великого магистра скрестились, будто меряясь силой, застыли, не отрывались друг от друга. Никто не знал, какие мысли, чувства, воспоминания проносятся в эту минуту в головах двух заклятых врагов. Но толпа инстинктивно почувствовала, что происходит нечто непередаваемо ужасное – так нечеловечески страшен был этот молчаливый поединок между всемогущим государем, окруженным свитой исполнителей его воли, и Великим магистром рыцарства, привязанным к позорному столбу, между двумя этими людьми, которых право рождения и случайности Истории вознесли над всеми остальными.
Быть может, Филипп Красивый, движимый высшим состраданием, помилует осужденных? Быть может, Жак де Моле смирится наконец и попросит пощады?
Король махнул рукой, и на пальце его сверкнул крупный изумруд. Ален де Парей точно таким же жестом махнул палачу, и палач сунул пучок горящей пакли под хворост, сложенный у подножия костра. Из тысячи грудей вырвался вздох – вздох облегчения и ужаса, вздох удовлетворения, страха и тоски, вздох почти сладострастного отвращения.
Раздались женские рыдания. Дети пугливо жались к материнским юбкам. Какой-то мужчина крикнул:
– Я же тебе говорил, не надо ходить!
Густые завитки дыма медленно подымались от костра, и ветер гнал их в направлении королевской галереи.
Его высочество Валуа закашлялся и продолжал упорно кашлять, как бы желая показать присутствующим, что он лично не может дышать таким воздухом. Он попятился и, встав между Ногаре и Мариньи, произнес:
– Мы тут задохнемся раньше, чем тамплиеры сгорят. Вы могли бы по крайней мере распорядиться запасти сухих дров.
Никто не ответил на это замечание. Ногаре, весь напрягшись, упивался своим торжеством, глаза его блестели. Этот костер увенчивал семь лет борьбы и утомительных трудов, он был завершением сотни речей, произнесенных ради того, чтобы убедить, сотен страниц, исписанных ради того, чтобы доказать. «Ну вот, теперь горите, жарьтесь, – думал он. – Не все вам торжествовать надо мной, я пересилил – и вы побеждены».
Ангерран де Мариньи в подражание королю старался сохранять полное спокойствие и смотреть на казнь лишь как на государственную необходимость. «Так надо, так надо», – твердил он про себя. Но при виде этих людей, которым суждено было умереть, он невольно думал о смерти: двое обреченных вдруг перестали в его глазах быть лишь политической абстракцией. Пусть они объявлены людьми злокозненными, опасными для государства, они все равно живые существа из плоти и крови, они мыслят, страдают, мучаются так же, как и все остальные, как он сам. «Проявил бы я на их месте такое же мужество?» – спрашивал себя Мариньи, невольно восхищаясь этими старцами. При одной мысли, что он может очутиться на их месте, по спине у него пробежала дрожь. Но он мгновенно овладел собой. «Что за дурацкие мысли лезут мне в голову? – шептал он про себя. – Конечно, и я, как любой смертный, могу заболеть, да и мало ли что может со мной случиться, но только не это. От этого я защищен. Я лицо столь же неприкосновенное, как и сам король…»
Но ведь и Великий магистр семь лет назад мог ничего не бояться, и не было во всей Франции человека, обладавшего большим могуществом.
Добряк Юг де Бувилль, королевский камергер с пегими волосами, неслышно творил про себя молитвы.
Ветер резко переменил направление, и дым, с каждой минутой становясь все гуще, поднялся столбом, окутал тамплиеров, скрыл их от глаз толпы. Слышно было только, как надсадно кашляли и судорожно икали два старика, привязанные к позорному столбу.
Вдруг Людовик Наваррский, потирая покрасневшие веки, разразился идиотским смехом.
Его брат Карл, младший сын Филиппа Красивого, стоял, отвернувшись от костра. Зрелище казни, очевидно, доставляло ему страдание. Карлу исполнилось двадцать лет; это был стройный блондин с нежным румянцем на щеках – все, кто помнил короля в годы его юности, утверждали, что сын похож на Филиппа как две капли воды, однако облику Карла недоставало отцовской мужественности, спокойной властности – словом, он казался слабой копией великого оригинала. Сходство, бесспорно, было, не было лишь отцовской твердости.
– Я заметил в окнах Нельской башни свет, – вполголоса обратился Карл к Людовику.
– Должно быть, стражники тоже хотят посмотреть на казнь.
– Я охотно поменялся бы с ними местами, – пробормотал Карл.
– Как так? Разве тебе не весело смотреть, как на костре поджаривают крестного отца Изабеллы?
– Ах, я и забыл, что Моле крестил нашу сестру, – все так же вполголоса ответил Карл.
– По-моему, зрелище презабавное, – отозвался Людовик Наваррский.
– Людовик, замолчите, – приказал король, которого отвлекало шушуканье сыновей.
Желая отделаться от чувства мучительной неловкости, молодой принц Карл постарался направить свои мысли по более приятному руслу. И он стал думать о своей жене Бланке, о чудесной улыбке своей Бланки, о прелестях Бланки, о ее руках, которые легко лягут на его плечи и прогонят прочь, заставят позабыть это страшное зрелище. Как она любит его, сколько счастья излучает вокруг. Вот если бы только их двое детей не умерли совсем маленькими… Ничего, у них еще будут дети, и тогда уже ничто не омрачит их жизнь… Очарование и душевный, ничем не нарушаемый покой… Бланка сказала ему, что нынче вечером пойдет посидеть с Маргаритой. Сейчас она, должно быть, уже вернулась домой. Не забыла ли она захватить меховую накидку, взяла ли с собой достаточно стражников?
Рев толпы прервал ход его мыслей, и Карл вздрогнул всем телом. Костер наконец разгорелся. По приказу Алена де Парея лучники потушили факелы, бросив их в мокрую траву, и теперь только пламя костра рассеивало мрак.
Первым огонь достиг приора Нормандии. Когда языки пламени лизнули его ноги, он каким-то отчаянным движением подался назад, широко открыл рот, надеясь вобрать побольше воздуха, такого желанного сейчас воздуха. Несмотря на веревки, которые удерживали его у столба, он перегнулся чуть ли не вдвое; от этого движения с головы свалилась бумажная митра, и зрители заметили огромный белый рубец, шедший поперек багрового лица. Пламя плясало вокруг. Потом приора Нормандии заволокло густой завесой дыма. Когда завеса рассеялась, Жоффруа де Шарне был уже весь охвачен огнем, он вопил, он задыхался, он рвался прочь от рокового столба, который зашатался у основания. Великий магистр крикнул ему что-то, но рев толпы, желавшей заглушить свой ужас, покрывал все звуки, и только пробравшиеся в первые ряды разобрали слово «брат» и еще раз «брат».
Подручные палача, расталкивая народ, хлопотали вокруг костра – кто бегом подносил поленья, кто ворошил уголья длинными железными крючьями.
Людовик Наваррский, обычно понимавший слова собеседника лишь спустя некоторое время, спросил брата:
– Значит, ты говоришь, что видел в Нельской башне свет?
И нахмурился, словно какая-то докучливая мысль пришла ему в голову.
Ангерран де Мариньи невольно поднес ладонь к лицу, как бы желая защитить глаза от ярких вспышек пламени.
– Чудесное зрелище вы уготовили нам, Ногаре, подлинная картина преисподней, – произнес Валуа. – Должно быть, о своей будущей жизни задумались?
Гийом де Ногаре ничего не ответил на шутку его высочества.
Костер разгорелся с новой силой, и Жоффруа де Шарне, приор Нормандии, охваченный пламенем, уже напоминал обуглившийся ствол, который потрескивал в огне, покрывался пузырями, обращаясь постепенно в пепел, рассыпаясь пеплом.
Многие женщины теряли сознание. Другие сломя голову бросались к берегу, нагибались над протокой и даже не боролись с приступами рвоты, хотя король сидел чуть ли не напротив. Толпа, охрипшая от крика, примолкла, и кое-кто уже уверял, что совершится чудо, ибо ветер упорно дул все в том же направлении и пламя еще не коснулось Великого магистра. Нет, неспроста его так долго не берет огонь, неспроста костер с его стороны не желает гореть.
Но вдруг верхние поленья осели, и пламя, получив новую пищу, взмыло вверх, к ногам Жака де Моле.
– Наконец-то, – воскликнул Людовик Наваррский, – наконец-то и его взяло!
Вытянув и без того длинное лицо, напружив худую шею, он весь сотрясался в приступе необъяснимого смеха, который неизменно нападал на него в самых, казалось бы, трагических обстоятельствах.
На огромные холодные глаза Филиппа Красивого ни разу, даже сейчас, не опустились веки.
Внезапно завесу пламени прорвал голос Великого магистра, и слова его были обращены ко всем и к каждому и беспощадно разили людей. И так неодолима была сила этого голоса, что казалось, принадлежит он уже не человеку, а идет из нездешнего мира. Жак де Моле снова заговорил, как нынче утром, на паперти собора Парижской Богоматери.
– Позор! Позор! – кричал он. – Вы все видите, что гибнут невинные. Позор на всех вас! Господь Бог нас рассудит!
Коварный язык пламени подкрался к нему, опалил бороду, в мгновение ока уничтожил бумажную митру, поджег седые волосы.
Толпа безмолвствовала в оцепенении. Людям казалось, что на их глазах жгут безумного пророка.
Лицо Великого магистра, пожираемого пламенем, было повернуто к королевской галерее. И громовой голос, сея страх, вещал:
– Папа Климент… рыцарь Гийом де Ногаре, король Филипп… не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!..
– Не хотят исповедоваться, не желают раскаиваться, – прошел по толпе шепот.
Тишина стала еще напряженнее, еще глубже. Монах, бормоча молитвы, опустился на колени. Главный палач взял из рук своего подручного пучок горящей пакли и помахал ею в воздухе, чтобы огонь сильнее разгорелся.
От едкого дыма чихнул какой-то ребенок, но звонкая пощечина тут же его усмирила.
Капитан Ален де Парей повернулся к королевской галерее, словно ожидая знака, и все головы, все взоры медленно, как по команде, обернулись в ту же сторону. И каждый невольно затаил дыхание.
Филипп Красивый стоял возле балюстрады; члены Королевского совета почтительно столпились вокруг него. В неверном свете факелов четко вырисовывались их лица, и вся группа придворных напоминала барельеф, высеченный на башенной стене из розового камня.
Даже осужденные подняли глаза к королевской галерее. Взгляды Филиппа и Великого магистра скрестились, будто меряясь силой, застыли, не отрывались друг от друга. Никто не знал, какие мысли, чувства, воспоминания проносятся в эту минуту в головах двух заклятых врагов. Но толпа инстинктивно почувствовала, что происходит нечто непередаваемо ужасное – так нечеловечески страшен был этот молчаливый поединок между всемогущим государем, окруженным свитой исполнителей его воли, и Великим магистром рыцарства, привязанным к позорному столбу, между двумя этими людьми, которых право рождения и случайности Истории вознесли над всеми остальными.
Быть может, Филипп Красивый, движимый высшим состраданием, помилует осужденных? Быть может, Жак де Моле смирится наконец и попросит пощады?
Король махнул рукой, и на пальце его сверкнул крупный изумруд. Ален де Парей точно таким же жестом махнул палачу, и палач сунул пучок горящей пакли под хворост, сложенный у подножия костра. Из тысячи грудей вырвался вздох – вздох облегчения и ужаса, вздох удовлетворения, страха и тоски, вздох почти сладострастного отвращения.
Раздались женские рыдания. Дети пугливо жались к материнским юбкам. Какой-то мужчина крикнул:
– Я же тебе говорил, не надо ходить!
Густые завитки дыма медленно подымались от костра, и ветер гнал их в направлении королевской галереи.
Его высочество Валуа закашлялся и продолжал упорно кашлять, как бы желая показать присутствующим, что он лично не может дышать таким воздухом. Он попятился и, встав между Ногаре и Мариньи, произнес:
– Мы тут задохнемся раньше, чем тамплиеры сгорят. Вы могли бы по крайней мере распорядиться запасти сухих дров.
Никто не ответил на это замечание. Ногаре, весь напрягшись, упивался своим торжеством, глаза его блестели. Этот костер увенчивал семь лет борьбы и утомительных трудов, он был завершением сотни речей, произнесенных ради того, чтобы убедить, сотен страниц, исписанных ради того, чтобы доказать. «Ну вот, теперь горите, жарьтесь, – думал он. – Не все вам торжествовать надо мной, я пересилил – и вы побеждены».
Ангерран де Мариньи в подражание королю старался сохранять полное спокойствие и смотреть на казнь лишь как на государственную необходимость. «Так надо, так надо», – твердил он про себя. Но при виде этих людей, которым суждено было умереть, он невольно думал о смерти: двое обреченных вдруг перестали в его глазах быть лишь политической абстракцией. Пусть они объявлены людьми злокозненными, опасными для государства, они все равно живые существа из плоти и крови, они мыслят, страдают, мучаются так же, как и все остальные, как он сам. «Проявил бы я на их месте такое же мужество?» – спрашивал себя Мариньи, невольно восхищаясь этими старцами. При одной мысли, что он может очутиться на их месте, по спине у него пробежала дрожь. Но он мгновенно овладел собой. «Что за дурацкие мысли лезут мне в голову? – шептал он про себя. – Конечно, и я, как любой смертный, могу заболеть, да и мало ли что может со мной случиться, но только не это. От этого я защищен. Я лицо столь же неприкосновенное, как и сам король…»
Но ведь и Великий магистр семь лет назад мог ничего не бояться, и не было во всей Франции человека, обладавшего большим могуществом.
Добряк Юг де Бувилль, королевский камергер с пегими волосами, неслышно творил про себя молитвы.
Ветер резко переменил направление, и дым, с каждой минутой становясь все гуще, поднялся столбом, окутал тамплиеров, скрыл их от глаз толпы. Слышно было только, как надсадно кашляли и судорожно икали два старика, привязанные к позорному столбу.
Вдруг Людовик Наваррский, потирая покрасневшие веки, разразился идиотским смехом.
Его брат Карл, младший сын Филиппа Красивого, стоял, отвернувшись от костра. Зрелище казни, очевидно, доставляло ему страдание. Карлу исполнилось двадцать лет; это был стройный блондин с нежным румянцем на щеках – все, кто помнил короля в годы его юности, утверждали, что сын похож на Филиппа как две капли воды, однако облику Карла недоставало отцовской мужественности, спокойной властности – словом, он казался слабой копией великого оригинала. Сходство, бесспорно, было, не было лишь отцовской твердости.
– Я заметил в окнах Нельской башни свет, – вполголоса обратился Карл к Людовику.
– Должно быть, стражники тоже хотят посмотреть на казнь.
– Я охотно поменялся бы с ними местами, – пробормотал Карл.
– Как так? Разве тебе не весело смотреть, как на костре поджаривают крестного отца Изабеллы?
– Ах, я и забыл, что Моле крестил нашу сестру, – все так же вполголоса ответил Карл.
– По-моему, зрелище презабавное, – отозвался Людовик Наваррский.
– Людовик, замолчите, – приказал король, которого отвлекало шушуканье сыновей.
Желая отделаться от чувства мучительной неловкости, молодой принц Карл постарался направить свои мысли по более приятному руслу. И он стал думать о своей жене Бланке, о чудесной улыбке своей Бланки, о прелестях Бланки, о ее руках, которые легко лягут на его плечи и прогонят прочь, заставят позабыть это страшное зрелище. Как она любит его, сколько счастья излучает вокруг. Вот если бы только их двое детей не умерли совсем маленькими… Ничего, у них еще будут дети, и тогда уже ничто не омрачит их жизнь… Очарование и душевный, ничем не нарушаемый покой… Бланка сказала ему, что нынче вечером пойдет посидеть с Маргаритой. Сейчас она, должно быть, уже вернулась домой. Не забыла ли она захватить меховую накидку, взяла ли с собой достаточно стражников?
Рев толпы прервал ход его мыслей, и Карл вздрогнул всем телом. Костер наконец разгорелся. По приказу Алена де Парея лучники потушили факелы, бросив их в мокрую траву, и теперь только пламя костра рассеивало мрак.
Первым огонь достиг приора Нормандии. Когда языки пламени лизнули его ноги, он каким-то отчаянным движением подался назад, широко открыл рот, надеясь вобрать побольше воздуха, такого желанного сейчас воздуха. Несмотря на веревки, которые удерживали его у столба, он перегнулся чуть ли не вдвое; от этого движения с головы свалилась бумажная митра, и зрители заметили огромный белый рубец, шедший поперек багрового лица. Пламя плясало вокруг. Потом приора Нормандии заволокло густой завесой дыма. Когда завеса рассеялась, Жоффруа де Шарне был уже весь охвачен огнем, он вопил, он задыхался, он рвался прочь от рокового столба, который зашатался у основания. Великий магистр крикнул ему что-то, но рев толпы, желавшей заглушить свой ужас, покрывал все звуки, и только пробравшиеся в первые ряды разобрали слово «брат» и еще раз «брат».
Подручные палача, расталкивая народ, хлопотали вокруг костра – кто бегом подносил поленья, кто ворошил уголья длинными железными крючьями.
Людовик Наваррский, обычно понимавший слова собеседника лишь спустя некоторое время, спросил брата:
– Значит, ты говоришь, что видел в Нельской башне свет?
И нахмурился, словно какая-то докучливая мысль пришла ему в голову.
Ангерран де Мариньи невольно поднес ладонь к лицу, как бы желая защитить глаза от ярких вспышек пламени.
– Чудесное зрелище вы уготовили нам, Ногаре, подлинная картина преисподней, – произнес Валуа. – Должно быть, о своей будущей жизни задумались?
Гийом де Ногаре ничего не ответил на шутку его высочества.
Костер разгорелся с новой силой, и Жоффруа де Шарне, приор Нормандии, охваченный пламенем, уже напоминал обуглившийся ствол, который потрескивал в огне, покрывался пузырями, обращаясь постепенно в пепел, рассыпаясь пеплом.
Многие женщины теряли сознание. Другие сломя голову бросались к берегу, нагибались над протокой и даже не боролись с приступами рвоты, хотя король сидел чуть ли не напротив. Толпа, охрипшая от крика, примолкла, и кое-кто уже уверял, что совершится чудо, ибо ветер упорно дул все в том же направлении и пламя еще не коснулось Великого магистра. Нет, неспроста его так долго не берет огонь, неспроста костер с его стороны не желает гореть.
Но вдруг верхние поленья осели, и пламя, получив новую пищу, взмыло вверх, к ногам Жака де Моле.
– Наконец-то, – воскликнул Людовик Наваррский, – наконец-то и его взяло!
Вытянув и без того длинное лицо, напружив худую шею, он весь сотрясался в приступе необъяснимого смеха, который неизменно нападал на него в самых, казалось бы, трагических обстоятельствах.
На огромные холодные глаза Филиппа Красивого ни разу, даже сейчас, не опустились веки.
Внезапно завесу пламени прорвал голос Великого магистра, и слова его были обращены ко всем и к каждому и беспощадно разили людей. И так неодолима была сила этого голоса, что казалось, принадлежит он уже не человеку, а идет из нездешнего мира. Жак де Моле снова заговорил, как нынче утром, на паперти собора Парижской Богоматери.
– Позор! Позор! – кричал он. – Вы все видите, что гибнут невинные. Позор на всех вас! Господь Бог нас рассудит!
Коварный язык пламени подкрался к нему, опалил бороду, в мгновение ока уничтожил бумажную митру, поджег седые волосы.
Толпа безмолвствовала в оцепенении. Людям казалось, что на их глазах жгут безумного пророка.
Лицо Великого магистра, пожираемого пламенем, было повернуто к королевской галерее. И громовой голос, сея страх, вещал:
– Папа Климент… рыцарь Гийом де Ногаре, король Филипп… не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!..