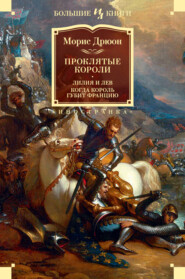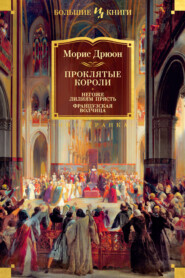По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проклятые короли: Железный король. Узница Шато-Гайара. Яд и корона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я сказал «были», мессир, ибо, если память мне не изменяет, из пятнадцати тысяч тамплиеров, насчитывавшихся во Франции, в ваших руках имеется всего лишь четверо… правда, все четверо достаточно докучливые субъекты, тут я с вами вполне согласен: подумать только, после семи лет следствия они еще осмеливаются утверждать, что невиновны! Помнится, что прежде, мессир Ногаре, вы были проворнее в исполнении своих обязанностей, ведь вы умели когда-то с помощью одной оплеухи убирать пап с престола.
Ногаре задрожал, и его лицо, окаймленное серебристо-белой бородой, угрожающе потемнело. Это он низложил папу Бонифация VIII, восьмидесятишестилетнего старца, дал ему пощечину и стащил за бороду с папского престола. Враги канцлера пользовались любым случаем, чтобы напомнить ему об этом эпизоде. За излишний пыл Ногаре был отлучен от церкви. Филиппу Красивому пришлось употребить все свое влияние, чтобы заставить папу Климента V снять отлучение.
– Нам хорошо известно, ваше высочество, – язвительно парировал Ногаре, – что вы всегда поддерживали тамплиеров. Нет ни малейшего сомнения в том, что вы рассчитывали на их войско, дабы отвоевать, пусть ценой разорения Франции, Константинопольский престол, который, увы, лишь химера и на который вам до сих пор не удалось сесть.
Отплатив оскорблением за оскорбление, Ногаре успокоился, и буро-красное лицо его приняло обычный цвет.
– Проклятье! – завопил Валуа, вскакивая с кресла, которое опрокинулось на пол.
В ответ на раздавшийся грохот из-под стола вдруг послышался собачий лай. Все присутствующие вздрогнули от неожиданности, кроме Филиппа Красивого и короля Людовика Наваррского, который оглушительно расхохотался. Это залаяла та самая борзая, которую Филипп Красивый привел с собой; пес еще не успел привыкнуть к таким шумным сценам.
– Людовик, да помолчите вы, – сказал Филипп Красивый, устремив на сына ледяной взгляд. Потом, щелкнув пальцами, позвал: – Ломбардец, ко мне! – и, ласково погладив собаку, прижал ее морду к коленям.
Людовик Наваррский, уже в те времена прозванный Сварливым, человек неуживчивый и скудный разумом, потупил голову, стараясь подавить приступ неудержимого и неуместного смеха. Людовику исполнилось двадцать пять лет, но по умственному развитию он ничем не отличался от семнадцатилетнего юноши. От отца он унаследовал светлые глаза, но бегающий взгляд Людовика выражал слабость; волосы его в отличие от отцовских кудрей были какого-то тусклого цвета.
– Сир, – начал Карл Валуа, когда Бувилль, первый королевский камергер, пододвинул ему кресло, – государь, брат мой, Бог свидетель, что я радею лишь о ваших интересах и вашей славе.
Филипп Красивый медленно повернул глаза к брату, и Карл Валуа вдруг почувствовал, что его оставляет обычная самоуверенность. Тем не менее он продолжал:
– Единственно о вас, брат мой, пекусь я, когда вижу, как с умыслом разрушают то, что составляет силу королевства. Когда не будет больше ни ордена тамплиеров, ни рыцарства, как сможете вы предпринять Крестовый поход, буде такой потребуется?
На вопрос Валуа ответил Мариньи.
– Под мудрым правлением нашего короля, – сказал он, – нам оказались не нужны Крестовые походы как раз потому, что рыцарство хранило спокойствие, ваше высочество, и не было нужды посылать его в заморские страны, с тем чтобы рыцари могли там израсходовать свой пыл.
– А вера, мессир, христианская вера!
– Золото, отобранное у тамплиеров, обогатило государственную казну, ваше высочество, обогатило куда больше, чем все те торговые и коммерческие операции, что велись под прикрытием священных хоругвей, а для беспрепятственного движения товаров не нужны Крестовые походы.
– Мессир, вы говорите, как безбожник!
– Я говорю, ваше высочество, как верный слуга престола.
Король легонько пристукнул по столу ладонью.
– Брат мой, – снова обратился он к Карлу, – напоминаю вам, что сегодня речь идет о тамплиерах, и только о них… Прошу вашего совета на сей счет.
– Совета?.. Совета?.. – озадаченно повторил Валуа.
Когда речь шла о переустройстве вселенной, откуда только брались у него слова, но ни разу еще он не высказал толкового мнения по тому или иному вопросу политики.
– Что ж, брат мой, пусть те, что так прекрасно провели дело тамплиеров, – он кивнул на Мариньи и Ногаре, – пусть они и подскажут вам, как нужно его завершить… Я же…
И Карл Валуа повторил пресловутый жест Пилата, умывающего руки.
Хранитель печати и коадъютор обменялись быстрым взглядом.
– Ну а ваше мнение, Людовик? – спросил король сына.
При этом неожиданном вопросе Людовик Наваррский даже вздрогнул; ответил он не сразу, во-первых, потому, что никакого мнения у него не имелось, а во-вторых, потому, что усердно сосал медовую конфетку и она, как на грех, завязла у него в зубах.
– А что, если передать дело тамплиеров папе? – выдавил он из себя наконец.
– Замолчите, Людовик, – оборвал его король, пожимая плечами.
Мариньи сокрушенно возвел глаза к небу.
Передать Великого магистра в руки папы значило начинать все с самого начала, все поставить под вопрос – и суть процесса, и способы его ведения, отказаться от всех решений, с таким трудом вырванных у соборов, зачеркнуть семь лет усилий и открыть путь новым распрям.
«И подумать только, что мой трон наследует вот такой глупец, – сказал себе Филипп Красивый, пристально глядя на сына. – Будем же надеяться, что к тому времени он поумнеет!»
В стекла, схваченные свинцовым переплетом, надсадно барабанил мартовский дождь.
– Бувилль, – окликнул Филипп камергера.
Юг де Бувилль решил, что король спрашивает его мнение. Первый королевский камергер был сама преданность и верность, само повиновение, сама услужливость, но природа обделила его способностью мыслить самостоятельно. И прежде всего он старался угадать, какой ответ будет угоден его величеству.
– Я думаю, сир, – забормотал он, – я думаю…
– Велите принести свечи, – прервал его король, – ничего не видно. Ваше мнение, Ногаре?
– Те, кто впал в ересь, заслуживают кары, применяемой к еретикам, и притом безотлагательной, – твердо произнес хранитель печати.
– Ну а народ? – спросил Филипп Красивый, переводя взор на Мариньи.
– Народное волнение уляжется, коль скоро те, кто является причиной беспорядков, перестанут существовать, – отозвался коадъютор.
Карл Валуа решил сделать последнюю попытку.
– Брат мой, – начал он, – осмелюсь напомнить вам, что Великий магистр причислен к рангу царствующих особ, и лишить его головы – значит посягать на тот самый принцип, который охраняет королевские головы…
Но под ледяным взглядом Филиппа начатая фраза застряла у него в горле.
Наступила минута тягостного молчания, затем Филипп Красивый заговорил:
– Жак де Моле и Жоффруа де Шарне нынче вечером будут сожжены на Еврейском острове против дворца. Они взбунтовались публично, следовательно и кара будет публичной. Я все сказал.
Он поднялся, и присутствующие последовали его примеру.
– Вы составите приговор, мессир де Прель. Предлагаю вам, мессиры, лично присутствовать при казни и нашему сыну Карлу тоже быть там. А предупредите его вы, сын мой, – закончил он, взглянув на Людовика Наваррского.
Потом он позвал:
– Ломбардец!
И вышел, сопровождаемый собакой.
На этом Совете, участие в котором принимали два короля, один император, один вице-король, были осуждены на смерть два человека. Но ни на минуту никто не подумал, что речь идет о двух человеческих жизнях – речь шла лишь о двух принципах.
Ногаре задрожал, и его лицо, окаймленное серебристо-белой бородой, угрожающе потемнело. Это он низложил папу Бонифация VIII, восьмидесятишестилетнего старца, дал ему пощечину и стащил за бороду с папского престола. Враги канцлера пользовались любым случаем, чтобы напомнить ему об этом эпизоде. За излишний пыл Ногаре был отлучен от церкви. Филиппу Красивому пришлось употребить все свое влияние, чтобы заставить папу Климента V снять отлучение.
– Нам хорошо известно, ваше высочество, – язвительно парировал Ногаре, – что вы всегда поддерживали тамплиеров. Нет ни малейшего сомнения в том, что вы рассчитывали на их войско, дабы отвоевать, пусть ценой разорения Франции, Константинопольский престол, который, увы, лишь химера и на который вам до сих пор не удалось сесть.
Отплатив оскорблением за оскорбление, Ногаре успокоился, и буро-красное лицо его приняло обычный цвет.
– Проклятье! – завопил Валуа, вскакивая с кресла, которое опрокинулось на пол.
В ответ на раздавшийся грохот из-под стола вдруг послышался собачий лай. Все присутствующие вздрогнули от неожиданности, кроме Филиппа Красивого и короля Людовика Наваррского, который оглушительно расхохотался. Это залаяла та самая борзая, которую Филипп Красивый привел с собой; пес еще не успел привыкнуть к таким шумным сценам.
– Людовик, да помолчите вы, – сказал Филипп Красивый, устремив на сына ледяной взгляд. Потом, щелкнув пальцами, позвал: – Ломбардец, ко мне! – и, ласково погладив собаку, прижал ее морду к коленям.
Людовик Наваррский, уже в те времена прозванный Сварливым, человек неуживчивый и скудный разумом, потупил голову, стараясь подавить приступ неудержимого и неуместного смеха. Людовику исполнилось двадцать пять лет, но по умственному развитию он ничем не отличался от семнадцатилетнего юноши. От отца он унаследовал светлые глаза, но бегающий взгляд Людовика выражал слабость; волосы его в отличие от отцовских кудрей были какого-то тусклого цвета.
– Сир, – начал Карл Валуа, когда Бувилль, первый королевский камергер, пододвинул ему кресло, – государь, брат мой, Бог свидетель, что я радею лишь о ваших интересах и вашей славе.
Филипп Красивый медленно повернул глаза к брату, и Карл Валуа вдруг почувствовал, что его оставляет обычная самоуверенность. Тем не менее он продолжал:
– Единственно о вас, брат мой, пекусь я, когда вижу, как с умыслом разрушают то, что составляет силу королевства. Когда не будет больше ни ордена тамплиеров, ни рыцарства, как сможете вы предпринять Крестовый поход, буде такой потребуется?
На вопрос Валуа ответил Мариньи.
– Под мудрым правлением нашего короля, – сказал он, – нам оказались не нужны Крестовые походы как раз потому, что рыцарство хранило спокойствие, ваше высочество, и не было нужды посылать его в заморские страны, с тем чтобы рыцари могли там израсходовать свой пыл.
– А вера, мессир, христианская вера!
– Золото, отобранное у тамплиеров, обогатило государственную казну, ваше высочество, обогатило куда больше, чем все те торговые и коммерческие операции, что велись под прикрытием священных хоругвей, а для беспрепятственного движения товаров не нужны Крестовые походы.
– Мессир, вы говорите, как безбожник!
– Я говорю, ваше высочество, как верный слуга престола.
Король легонько пристукнул по столу ладонью.
– Брат мой, – снова обратился он к Карлу, – напоминаю вам, что сегодня речь идет о тамплиерах, и только о них… Прошу вашего совета на сей счет.
– Совета?.. Совета?.. – озадаченно повторил Валуа.
Когда речь шла о переустройстве вселенной, откуда только брались у него слова, но ни разу еще он не высказал толкового мнения по тому или иному вопросу политики.
– Что ж, брат мой, пусть те, что так прекрасно провели дело тамплиеров, – он кивнул на Мариньи и Ногаре, – пусть они и подскажут вам, как нужно его завершить… Я же…
И Карл Валуа повторил пресловутый жест Пилата, умывающего руки.
Хранитель печати и коадъютор обменялись быстрым взглядом.
– Ну а ваше мнение, Людовик? – спросил король сына.
При этом неожиданном вопросе Людовик Наваррский даже вздрогнул; ответил он не сразу, во-первых, потому, что никакого мнения у него не имелось, а во-вторых, потому, что усердно сосал медовую конфетку и она, как на грех, завязла у него в зубах.
– А что, если передать дело тамплиеров папе? – выдавил он из себя наконец.
– Замолчите, Людовик, – оборвал его король, пожимая плечами.
Мариньи сокрушенно возвел глаза к небу.
Передать Великого магистра в руки папы значило начинать все с самого начала, все поставить под вопрос – и суть процесса, и способы его ведения, отказаться от всех решений, с таким трудом вырванных у соборов, зачеркнуть семь лет усилий и открыть путь новым распрям.
«И подумать только, что мой трон наследует вот такой глупец, – сказал себе Филипп Красивый, пристально глядя на сына. – Будем же надеяться, что к тому времени он поумнеет!»
В стекла, схваченные свинцовым переплетом, надсадно барабанил мартовский дождь.
– Бувилль, – окликнул Филипп камергера.
Юг де Бувилль решил, что король спрашивает его мнение. Первый королевский камергер был сама преданность и верность, само повиновение, сама услужливость, но природа обделила его способностью мыслить самостоятельно. И прежде всего он старался угадать, какой ответ будет угоден его величеству.
– Я думаю, сир, – забормотал он, – я думаю…
– Велите принести свечи, – прервал его король, – ничего не видно. Ваше мнение, Ногаре?
– Те, кто впал в ересь, заслуживают кары, применяемой к еретикам, и притом безотлагательной, – твердо произнес хранитель печати.
– Ну а народ? – спросил Филипп Красивый, переводя взор на Мариньи.
– Народное волнение уляжется, коль скоро те, кто является причиной беспорядков, перестанут существовать, – отозвался коадъютор.
Карл Валуа решил сделать последнюю попытку.
– Брат мой, – начал он, – осмелюсь напомнить вам, что Великий магистр причислен к рангу царствующих особ, и лишить его головы – значит посягать на тот самый принцип, который охраняет королевские головы…
Но под ледяным взглядом Филиппа начатая фраза застряла у него в горле.
Наступила минута тягостного молчания, затем Филипп Красивый заговорил:
– Жак де Моле и Жоффруа де Шарне нынче вечером будут сожжены на Еврейском острове против дворца. Они взбунтовались публично, следовательно и кара будет публичной. Я все сказал.
Он поднялся, и присутствующие последовали его примеру.
– Вы составите приговор, мессир де Прель. Предлагаю вам, мессиры, лично присутствовать при казни и нашему сыну Карлу тоже быть там. А предупредите его вы, сын мой, – закончил он, взглянув на Людовика Наваррского.
Потом он позвал:
– Ломбардец!
И вышел, сопровождаемый собакой.
На этом Совете, участие в котором принимали два короля, один император, один вице-король, были осуждены на смерть два человека. Но ни на минуту никто не подумал, что речь идет о двух человеческих жизнях – речь шла лишь о двух принципах.