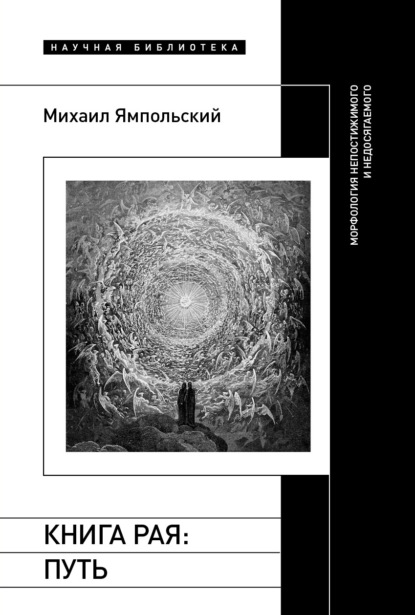По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга рая. Путь. Морфология непостижимого и недосягаемого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда мы воображаем прошлое, мы неотвратимо смотрим назад, как если бы была дорога, по которой мы шли, мы вспоминаем тех, кто составлял нам компанию, то есть тех, кто прошел тот или иной отрезок пути с нами. Идея странствия, обычно не рассматриваемая как некая ценность для порядка философствования, тем не менее предлагает неоценимое преимущество: собирание вместе тех определяющих факторов, которые принадлежат и времени, и пространству. И может заслуживать внимания попытка понять, как она осуществляет свой синтез[53 - Marcel G. Homo Viator. Introduction to a Metaphysic of Hope. Chicago: Henry Regnery, 1951. Р. 9.].
Метафора дороги позволяет произвести синтез пространства и времени, а «внутри времени» – прошлого, настоящего и будущего, из которых складывается наше существование в мире, комплекс, который Хайдеггер называл Dasein и бытие-в-мире. Парадоксальное существо этой дороги, которое Марсель называет «синтезом», заключается в том, что, двигаясь от себя вовне, путник по существу лишь проясняет и конкретизирует самого себя. Уход от себя оказывается возвращением к себе. Это движение напоминает платоновское epistroph?[54 - Мишель Фуко выделяет три главных аспекта платоновского возвращения к себе: представление о противоположности того и этого миров, высвобождение из тела – темницы или могилы – и наконец познание себя: «Знание себя – это знание истины. Знание истины – это освобождение» (Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981/1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007. С. 236).]. Пьер Адо так характеризовал это состояние:
Живой организм – это напряжение между центробежной силой, которая заставляет его двигаться и расти, и центростремительной силой, которая позволяет ему воспринимать и чувствовать. Таково животное тепло, о котором говорил Гален: оно рассеивается, но возвращается к себе, без чего оно бы окончательно рассеялось; возвращается к себе, не переставая рассеиваться, без чего оно бы стало обездвиженным. Его движение внутрь – это постоянное возвращение к своему собственному принципу…[55 - Hadot P. Epistrophe et metanoia // Actes du XI-е congres international de Philosophic. Bruxelles, 20–26 aout 1953. Louvain; Amsterdam: Nauwelaerts, 1953. Vol. XII. Р. 31.]
В разгар оккупации в 1943 году Марсель прочитал лекцию «Ценность и бессмертие» (включенную позднее в Homo Viator), где различает любопытство, направленное от человека вовне, и «метафизическое беспокойство» (inquietude mеtaphysique), касающееся неопределенного существа самого человека. И он объясняет, что любопытство определяет местоположение центра по отношению к смутному объекту интереса на периферии. Беспокойство же озабочено невозможностью локализации этого центра. Более того, эта двойственность центра и периферии приводит к метаморфозе любопытства в беспокойство в тех случаях, когда объект интереса является частью его самого. Поскольку же любопытство всегда движется от центра, оно может его дестабилизировать и вызвать беспокойство. Марсель пишет об объекте любопытства, что он не может быть «отделен от меня самого, не приведя к моему собственному разрушению»[56 - Ibid. Р. 138.]. Эта модель проясняет существо пути как пространственного движения, в котором мир и «Я» подвергаются и конкретизации и разрушению. Это путь между частными истинами, подвергаемыми коррекциям (в духе гегелевской «Феноменологии») и включаемыми в сложные связи.
Марсель заключает свое эссе знаменательным образом:
Возможно, устойчивый порядок может быть утвержден, только если человек остро осознает свое положение как путника (condition itinеrante), то есть если он постоянно напоминает себе о том, что должен прокладывать себе опасный путь через неустойчивые блоки мироздания, рухнувшего и разлетающегося во все стороны. Такой путь ведет к миру, более надежно укорененному в Бытии, миру, чье меняющееся обличье мы только и способны увидеть отсюда, снизу. Не всегда ли случалось так, как если бы этот превратившийся в руину мир постоянно обрушивался на того, кто утверждал, что может в нем поселиться и даже воздвигнуть в нем прибежище для себя?[57 - Ibid. Р. 153–154.]
3. Закрытие горизонта
Эта книга о пути к трансцендентному, которое в книге идентифицируется с раем. Здесь описываются разные конфигурации этого пути: движение к цели, поиски земного рая, плавание в неопределенности открытого океана и, наконец, – в большом разделе, посвященном Данте, – движение к раю безо всякой пространственной локализации. Путь, описанный тут, ведет сначала к периферии, потом возвращает нас от нее к центру и в конечном счете поворачивает к самому себе примерно так, как это описывал Марсель. В начале вступления я говорил о том, что исходной точкой этого пути может быть ад. И я полагаю, что странствие к неведомому начиналось в аду вплоть до Второй мировой войны. Ад Первой мировой войны произвел вычищение опыта и открытие горизонта, которого с такой ясностью больше никогда не было. Николас Уоррен, написавший книгу о немецкой философии в годы Первой мировой войны, в частности, заявляет:
Никакой европейский конфликт до Первой мировой войны и, возможно, после, включая Вторую мировую войну, не был свидетелем такого широкого и глубокого влияния in situ на философов. Этот настоящий взрыв интеллектуальной активности принял множество форм…[58 - Warren N. de. German Philosophy and the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. Р. 3.]
Но то же самое может быть сказано и об иных формах культуры и искусства. Существенно, что после этого глобального события и произведенного им очищения горизонта и пути горизонт начал постоянно сужаться. А войны и катастрофы последних лет как будто совершенно не подтверждают диагноза Беньямина и Блоха, касающегося крушения институций, предрассудков и сконструированной культурой предметности.
После Первой мировой войны Хайдеггер видит открывающийся перед сознанием горизонт и мир. Вскоре после Второй мировой войны, в 1953 году, он читает знаменитую лекцию «Вопрос о технике», в которой говорится почти исключительно о закрытии горизонта действительным как «состоящим-в наличии». Хайдеггер писал о самораскрытии природы перед человеком, открытость которого позволяет ему войти в мир как
в круг непотаенного, чья непотаенность (Unverborgenheit) уже осуществилась, коль скоро она вызвала человека на соразмерные ему способы своего открытия. По-своему открывая внутри непотаенности присутствующее в ней, человек лишь отвечает ее вызову…[59 - Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 228.]
Это взаимное самораскрытие природы и человека, предполагающее расширение горизонта с человеческой стороны, сопровождается собиранием видимого в некие значащие комплексы. И Хайдеггер приводил пример гор, которые складываются человеком из отдельных неровностей и вершин в «горный хребет»[60 - Хайдеггер пишет: Was die Berge urspr?nglich zu Bergz?gen entfaltet und sie in ihrem gefalteten Beisammen durchzieht, ist das Versammelnde, das wir Gebirg nennen (Heidegger M. Gesamtausgabe I. Abteilung: Ver?ffentlichte Schriften 1910–1976, Bd. 7. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2000. S. 20). По-русски это может быть передано следующим образом: «То, что разворачивает отдельные горы в горные цепочки и движется через них, в их смятой целостности, есть собранность, которую мы называем горами (горным ландшафтом)». Любопытным и совершенно необъяснимым для меня образом переводчик этого текста Владимир Бибихин подменяет горы морским берегом: «То, что изначально складывает извилистые линии берега, нанизывая на себя их сложную совокупность, в береговую линию, есть собирающее начало, которое мы называем по-бережьем» (Хайдеггер М. Вопрос о технике. С. 229). Я обращаю на это внимание не просто как на курьез, а потому что побережье, в отличие от гор, ассоциируется с горизонтом, то есть с собиранием открытости и предела одновременно. Фома Аквинский приводит важную цитату из Иеремии: «…в Книге пророка Иеремии (5, 22): Меня ли вы не боитесь, говорит Господь… Я положил песок границею морю, вечным пределом, [которого не перейдет]» (Святой Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть первая, вопросы 65–119 (часть I, вопрос 69, раздел 1). С. 51).]. Но это взаимное движение открытия и собирания в современном мире деформируется до неузнаваемости и приводит к загромождению, закрытию горизонта тем, что Хайдеггер называет Ge-stell (в переводе Бибихина – «По-став»), то есть «наличностью», как «состоящим в наличности» (Bestand), как возможностью потребления и использования. Хайдеггер связывал такую деформацию открытости в закрытость с техникой. Но, конечно, речь идет о чем-то гораздо более широком, о повсеместном превращении мира в источник потребления и – еще шире – об определенном типе рациональности, который закрывает горизонт. Хайдеггер писал о том, что в современном мире человек
становится просто поставителем этой наличности – он ходит по крайней кромке пропасти, а именно того падения, когда он сам себя будет воспринимать уже просто как нечто состоящее в наличности[61 - Хайдеггер М. Вопрос о технике. С. 233.].
Иными словами, человек сам превращается в «состоящую в наличности» вещь.
В своей последней книге, посвященной кризису европейской рациональности, Гуссерль говорит о нашей погруженности в мир, который дан нам до всякого явления вещей и является условием их возникновения:
…мир заранее дан вовсе не от случая к случаю, он всегда и необходимым образом дан нам как универсальное поле всякой действительной и возможной практики, как горизонт[62 - Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 194.].
Горизонт здесь – важное понятие, потому что этот мир не дан нам как объект, как нечто сущее (ein Seiendes), это именно горизонт: «Каждое множественное и выделяемое из него единственное предполагает мировой горизонт»[63 - Там же.]. Именно в горизонте мира вещи соотносятся друг с другом и со мной и приобретают смысл[64 - О понятии горизонта у Гуссерля см.: Geniusas S. The Origins of the Horizon in Husserl’s Phenomenology. Dorderecht: Springer, 2012.]. Там, где этот горизонт исчезает, воистину остается только «состоящее в наличии», а человек превращается в элемент этого наличия. Мир с его связями в такой ситуации перестает расширяться, но сводится к совокупности того, что Делез и Гваттари называли «желающими машинами», вступающими в бесконечные цепочки связей. Человек, попадая в такую машину, начинает двигаться от одного объекта желания к другому, сам превращаясь в часть механизма.
Делез и Гваттари обнаруживали первые модели машинизма желания во время Первой мировой войны и выделяли четыре главных его типа[65 - 1. Итальянский футуризм, «который делает ставку на машину, чтобы развить национальные производительные силы и произвести нового национального человека». 2. Русский футуризм и конструктивизм, «которые мыслят машину в связи с новыми производственными отношениями, определенными коллективной собственностью». 3. Дадаизм, который «выполняет перевертывание как революцию желания». 4. Гуманистический антимашинизм, «который стремится спасти символическое или воображаемое желание, повернуть его против машины» (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 633–634).]. Желающие машины – это социальные машины, инвестированные либидинозным импульсом, в которые человек включается как механический элемент:
…следует заставить человека и машину вступить в коммуникацию, дабы показать, как человек составляет деталь вместе с машиной или составляет деталь с чем-то другим, чтобы создать машину. Этой другой вещью может быть какое-то орудие, даже животное или другие люди[66 - Там же. С. 607.].
Делез и Гваттари говорят о том, что «система человек – лошадь – лук образует военную кочевую машину в условиях степи»[67 - Там же. С. 608.], а танцор составляет машину с танцплощадкой. В этой машине человек уже не свободен, все параметры ее движения задает машинный ассамбляж, в который он включен. И конечно, военная машина является таким ассамбляжем, все в большей степени подразумевающим «желание» – например денег, свободы от быта и кредитов, удовлетворения садистских инстинктов и т. д.
То, что раньше было связано с горизонтом и возможностью пути, теперь поглощается движением желающей машины, которой могут быть магазин или курорт, полностью детерминирующие поведение включенного в них человека. Именно такие машины сегодня подчиняют себе поведение когда-то «свободного» (хотя бы утопически) человека. Желающие машины с их автоматическим детерминизмом определяют поведение даже таких сообществ, как беженцы или политические эмигранты, в повадках и высказываниях которых почти нет следов свободы. И возможно, самой красноречивой метаморфозой движения в современном мире становится превращение путника – Homo Viator – в туриста, человека, включенного в машинный поток по всем правилам желающей машины[68 - Вот как формулируют Делез и Гваттари динамику такой машины: «…машина имеет две характеристики или потенции: потенцию континуума, машинного типа, в котором какая-то определенная деталь соединяется с какой-то другой деталью – цилиндр и поршень в паровой машине или даже, если продолжить эту линию потомства, колесо в паровозе; но также прерывание направления, такую мутацию, что каждая машина оказывается абсолютным разрывом по отношению к той машине, которую она замещает, как газогенераторный двигатель по отношению к паровой машине. Две этих потенции составляют единое целое, поскольку машина сама по себе является срезом-потоком, а срез всегда прилагается к непрерывности одного потока, который он отделяет от других потоков, придавая ему код, заставляя его нести те или иные элементы» (Там же. С. 613).]. Турист колесит по заранее намеченным маршрутам и останавливается в местах повышенного общего интереса. Цель этой поездки трудно сформулировать, кроме самой идеи пребывания в заранее намеченных точках, обладающих повышенной потребительской ценностью, и возможности запечатлеть себя в этих местах. Кроме того, эти поездки могут быть частью некоего престижного культурного капитала. Но совершенно очевидно, что они не имеют ни малейшего отношения к движению горизонта и соотнесения себя с миром. Жюльетт Морис посвятила специальное исследование превращению паломничества в туризм и возникшей в связи с этим критике вырождения пути в удовлетворение любопытства и тщеславия. Первые признаки рефлексии над такой деградацией она находит уже у Петрарки и Эразма[69 - Morice J. Le Monde ou la Biblioth?que. Voyage et еducation ? l’?ge Classique. Paris: Les Belles Lettres, 2016. Эразм устами «паломника-туриста» Корнелия так описывает резон своих изнурительных путешествий: «Корнелий. Всякий раз, как вздумается, примусь описывать свое путешествие где-нибудь на людях или за столом, и до чего же сладко будет обманывать и себя и других!Арнольд. Да, признаюсь, ты бьешь наверняка.Корнелий. И не меньше будет удовольствия послушать, как лгут другие, сочиняя небылицы о том, чего никогда не видели и не слыхали. И ведь с какою уверенностью лгут! Плетут такое, что уши вянут, а убеждены, будто говорят чистую правду!Арнольд. Странное удовольствие. Но ты, выходит, потрудился не попусту.Корнелий. Какое там попусту! По-моему, намного разумнее тех, кто за малые деньги идет в военную службу – в эту школу всяческих преступлений» (Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. М.: Худож. лит., 1969. С. 26–27).].
Турист движется от отеля к ресторану, от ресторана к автобусу и т. д., полностью соблюдая всю механику туристской машины желания[70 - Совершенно пародийно выглядят недавние попытки некоторых теоретиков туризма описывать это занятие в философских терминах. Так, один философствующий теоретик туризма пишет: «…экзистенциальная подлинность, в отличие от той, что связана с объектом, часто не имеет никакого отношения к реальности тех объектов, которые посещает турист. В поисках туристского экзистенциально аутентичного опыта туристы озабочены экзистенциальным состоянием Бытия, активированным некоторыми туристскими действиями» (Ning Wang. Rethinking Authenticity in Tourism Experience // Annals of Tourism Research. 1999. Vol. 26. № 2. Р. 359).]. То же самое может быть сказано о трансформации побережья, которое долго время считалось местом, где горизонт являет себя наиболее полно. Поль Валери писал: «Небо и Море – объекты, неотделимые от максимальной полноты взгляда»[71 - Valеry P. Pi?ces sur l’art. Paris: Gallimard, 1962. Р. 187.]. Но индустрия отдыха завалила морские берега телами отдыхающих, за которыми совершенно исчезает открытость пространства.
Безостановочно возрастающие потоки туристов и мигрантов только подчеркивают исчезновение того пути, который был частью человеческого удела в течение веков. Мне кажется, что исчезновение этого пути, его исчерпание начинается между Первой и Второй мировыми войнами и в наши дни достигает кульминации. Недавно французский эссеист Жоэль Гейро опубликовал книгу «Человек без горизонта», где обсуждается «закрытие» мира, в котором он выделяет три аспекта. Первый – это географическое закрытие. В мире не остается неизведанных земель. Второй – экологическое закрытие, обнаружение ограниченности природных ресурсов. Третий аспект, по его мнению, наиболее важный, так как имеет прямое отношение к основаниям человеческого существования. Это историческое закрытие, исчезновение будущего[72 - Gayraud J. L’homme sans horizon. Montreuil: Libertalia, 2019.]. Но странным образом закрытие мира вовсе не означает, что человек замыкается в некоем месте своего пребывания. Замыкание это не порождает места как некоего центра, по отношению к которому образуются горизонт и периферия. Погружение в машину делает место невозможным, так как машина все время движется в потоке – и человек вместе с ней. Именно поэтому номадическая машина войны плохо вписывается в государство с его чрезвычайной централизацией. Закрытие горизонта, таким образом, замыкает человека в некоей пустоте, в которой даже нет места для «Я».
Эта пустота была названа Хайдеггером «бездомностью новоевропейского человека». Философ заметил: «Бездомность становится судьбой мира»[73 - Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. С. 207. О теме бездомности и изгнания у Хайдеггера см.: Sа Cavalcante Schuback M. Exile and Existential Disorientation // Dis-orientations: Philosophy, Literature, and the Lost Grounds of Modernity / Ed. by M. Sа Cavalcante Schuback, T. Lane. London: Rowman & Littlefield International, 2015. Р. 95–119.]. Но это изгнание и бездомность совсем иного типа, чем те, что связаны с одиночеством, раскрытием горизонта и приглашением к странствию. Это бездомность в массе и толпе. Человек, включенный в машину желания, всегда соединен с другими частями этой машины и другими ее обитателями. Туризм или отдых на пляже неизменно включает человека в толпу. Джорджо Агамбен (вслед за Джорджо Колли) пишет в этой связи о замене репрезентации непосредственным контактом. Репрезентация требует дистанции, пространственной открытости и формы, а прямой контакт указывает на нулевую степень репрезентации мира. Говоря о политике, Агамбен пишет:
Нужно будет мыслить политику как интимность, лишенную посредничества всякого членения и репрезентации: человеческие существа, формы-жизни находятся в контакте, который непредставим, так как он именно и являет репрезентативную пустоту, то есть деактивацию и бездеятельность любой репрезентации[74 - Agamben G. The Use of Bodies: Homo Sacer IV, 2. Stanford: Stanford University Press, 2015. Р. 237.].
Такое положение странной публичной интимности приводит, по мнению Агамбена, «к порогу неразличимости, у которого дихотомия ослабляется, а противоположности совпадают»[75 - Ibid. Р. 239.]. «Порог неразличимости» – это нечто прямо противоположное горизонту или пределу, открывающим пространство для странствия и опыта.
Но закрытие горизонта сегодня происходит не только в режиме либидинозно-потребительского машинизма. Агамбен пишет о сообществе контакта как образовании, по своему существу противоположном образу жизни философа, традиционно считавшего свою интеллектуальную независимость укорененной в «одиночестве» и потому исключенной из политики. Еще Аристотель полагал, что человек вне политики – это особое существо:
…человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек…[76 - Аристотель. Политика (1253а) // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 378.]
Исключение из полиса обыкновенно понималось как изгнание. Именно изгнание открывало мыслителю широкий горизонт мира. Но само изгнание претерпело сильные изменения.
Ханна Арендт, сама изгнанница из нацистской Германии, в эссе о Лессинге писала об особой форме изгнания, характерной для «темных времен»; это состояние не раскрытия мира, но его сокрытия:
…в «темные времена» теплота, заменяющая париям свет, обладает сильной привлекательностью для всех, кому так стыдно за мир, каков он есть, что им хочется укрыться в невидимость. А в невидимости, в той темноте, где человек, спрятавшись сам, может уже не смотреть и на видимый мир, лишь теплота и братство тесно сгрудившихся людей могут возместить ту жуткую ирреальность, какую человеческие отношения приобретают всякий раз, когда развиваются в абсолютной безмирности, не соотнесенные с общим для всех людей миром. В таком состоянии безмирности и ирреальности нет ничего естественнее вывода, будто общее для всех людей – это не мир, а «человеческая природа» того или иного рода[77 - Арендт Х. О человечности в темные времена: мысли о Лессинге // Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований, 2003. С. 26.].
Сплоченность сообщества единомышленников создает стену между изгнанниками и миром. Эту ситуацию Арендт называет братством. Братство – это такой же максимально закрытый мир, как и желающие машины. Оно точно так же стирает различия и точно так же создает режим уютной неразличимости. Подавляя внятные различия, братство изгнания уничтожает мир, «который может образоваться только в пространствах между людьми во всем их разнообразии»[78 - Там же. С. 43.]. А там, где мир исчезает, исчезает и путь. Делез, коснувшись изгнанников-эмигрантов, избегает говорить о них и сейчас же переключается на кочевников, которые, как он замечает,
фактически остаются на одном месте (ils restent immobiles), все специалисты по кочевникам говорят это. Кочевники не хотят уходить, потому что они держатся за землю, их землю. Они покидают свою землю, и они держатся ее, они могут кочевать только по своей земле, и они могут кочевать, лишь постоянно желая остаться на ней. Так что, в некотором смысле, можно сказать, что нет ничего более неподвижного, чем кочевник, никто не путешествует меньше кочевника[79 - Алфавит Жиля Делеза совместно с Клер Парне. Минск. Klinamen, 2003. Цит. по электронной версии.].
Мне кажется, что это описание гораздо в большей степени касается политических изгнанников, продолжающих цепляться за место, которое они вынуждены были покинуть.
Эта книга посвящена опыту пути в поисках иного и одновременно в поисках мира и себя. Она написана вдали от родины под влиянием разверзшегося ада и от ощущения исчезновения открытости мира и пути к нему. Обращение к человеку-страннику, хотя и прошлых времен, было важно мне самому. В пилигриме прошлого я видел проблеск так нужной нам всем сегодня надежды.
***
В заключение я хочу выразить свою глубокую признательность моему старинному другу и издателю Ирине Прохоровой, которая с энтузиазмом поддержала идею этой книги и взялась за то, чтобы донести ее до читателя.
И еще одно чисто техническое замечание. В этой книге цитируется множество текстов. Там, где мне удавалось найти русский перевод, я его охотно использовал. Но во многих случаях во имя уточнения смысла я в скобках приводил слова оригинала, ссылки на который я не давал, чтобы не делать аппарат примечаний излишне тяжеловесным. Особенно это относится к цитатам из Данте, чью «Божественную комедию» я цитирую в непревзойденном переводе М. Лозинского.
Июнь – октябрь 2023, Стокгольм – Нью-Йорк
ЧАСТЬ 1. ПРОСТРАНСТВО, МЕСТО, ДВИЖЕНИЕ
4. Мир, утративший единство
Прежде чем обратиться к истории пути, я хотел бы сделать еще несколько общих философских замечаний, вводящих в сюжет под несколько иным углом.
Стала банальностью констатация нарастающей фрагментации мира, в котором мы живем. В XIX веке, например, казалось, что общество в своей наиболее «значащей» части состоит из нескольких классов – пролетариата, крестьянства и буржуазии. А значимый мир «цивилизации» состоит из немногочисленных империй и нескольких легко перечисляемых наций. В биологическом и социальном плане население планеты состояло из двух полов. А в духовном аспекте в основном принадлежало немногочисленным мировым религиям. Сегодня эта простая картина ушла в прошлое. На место простого набора элементов приходит множество.
В 2005 году Антонио Негри и Майкл Хардт опубликовали ставшую бестселлером книгу «Множество». Книга эта, вероятно в силу ее очевидного утопизма, довольно быстро оказалась забытой, но ее основной посыл заслуживает внимания и сейчас. По мнению Негри и Хардта, общественное развитие мира привело к возникновению некоего наднационального объединения, которое они называют «Империей». Ближе всего по духу к ней американский союз государства и корпораций, приобретших глобальный характер. Империя, подавляя разнообразие культур и социальных групп, создает такую плотную сеть обменов (финансовых, товарных, информационных и т. д.), что, по сути дела, производит внутри себя зародыш глобальной демократии. Но это демократия совершенно нового типа, так как она возникает внутри «множества», которое является объединением тотально фрагментированных элементов:
…следует провести различие между концептуальным видением множества и представлениями о других общественных субъектах, таких как народ, массы и рабочий класс. По традиции под народом понимается нечто цельное. Конечно, население имеет всякого рода различия, но понятие народ сводит их на нет, благодаря чему население наделяется определенной идентичностью: народ един. Множество же, напротив, многолико. Оно характеризуется несчетным числом внутренних несходств, которые невозможно свести воедино или к одному облику, поскольку оно составлено из отдельных культур, рас, этносов, гендеров, сексуальных ориентаций, разных форм труда, образов жизни, мировоззрений и устремлений. Множество состоит из многочисленных своеобразий подобного рода[80 - Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006. С. 4. Само понятие множества как некой совокупности, основанной на различиях, Негри и Хардт позаимствовали у Жиля Делеза.].
Но если это утопическое множество все состоит из несходств, как вообще возможно мыслить его единство, не является ли оно тем рубежом, за которым единство оказывается невозможным и мы остаемся в состоянии фрагментированной дисперсии? Жан-Люк Нанси, многократно возвращавшийся к теме совместности и сообщности, писал о том, что всякое существование «есть только присутствие в себе»[81 - Нанси Ж.?Л. Непроизводимое сообщество. М.: Водолей, 2011. С. 151.]. Это «присутствие» выражается в установлении границ, разделении бытия, без которых «себя» не существует. Отсюда он делает вывод, что никакого общего бытия нет. Но есть нечто иное – «бытие вместе»[82 - «…il n’y a pas d’?tre commun, il y a l’?tre en commun» (Nancy J.?L. La Communautе DеsCuvrеe. Paris: Christian Bourgois, 1999. Р. 208).]. Это бытие вместе не предполагает слитности, наоборот, оно необходимо для установления различий. Нанси отсылает к Делезу, который, как он полагает, считал всякое «к себе» установлением «неуловимого существования», «неуловимого для любого определения сущности»[83 - «Существование, напротив, есть только присутствие к себе, предлог „к“ в этом сочетании отклоняет, дает отсрочку, по преимуществу искажает себя для бытия, чтобы дать ему существовать, чтобы его выказать. Само-становление „себя“ – это неуловимое существование, как мог бы сказать Делёз, неуловимое для любого определения сущности» (Нанси Ж.?Л. Указ. соч. С. 151).]. Однако если всякая индивидуальная идентичность предполагает совместность, как вообще можно говорить о сообществе как некой целостности, а не просто как месте дифференцирования и различения? Нанси прекрасно понимает сложность ситуации и поэтому говорит о неразделенности философии и сообщества[84 - «Мы можем показать, что сообщество – это тема всех философских тем, может быть, превосходящая или предшествующая самой „тематике“ философии. Прежде чем последняя обретет какой-либо „объект“, она становится фактом сообщества, „философствование“ будет совместным в разделении этого „со“ (ничего общего не имеющего с коллективным, бесконечно отворачивающегося от оппозиции и бинома „индивидуальный/коллективный“)» (Там же. С. 152).].
Нанси соотносит сообщество не только с самим актом философствования, то есть установления различий через установление общего, соотнесение разных версий себя в совместности их бытия, как «позиций существования». Он обращается к мысли Жоржа Батая, согласно которому всякое сообщество нуждается в мифе, утверждающем историческую общность членов этого сообщества. Нанси воображает сцену, где некий рассказчик сообщает группе собравших людей (орде, племени) историю об их общем происхождении, историю, которая всех их объединяет:
Это – история их происхождения: куда ведут их истоки и как они укоренены в самих этих Истоках – они или их жены, имена или авторитеты. Одновременно это – история начала мира, начала собрания или истока самого рассказа…[85 - Там же. С. 88.]
Этот рассказ – миф, который и конституирует единство слушающих, созидает «интимное бытие сообщества»[86 - Там же. С. 96. Нанси пишет: «Миф сообщает нечто общее, общее бытие открываемого или рассказываемого им. Следовательно, каждое его откровение является откровением самого сообщества и создает его. Миф – это всегда миф сообщества, то есть миф некой общности – единый голос многих – способный изобретать и разделять миф. Не существует мифа вне мифа зарождения мифов сообщества (или народа)» (Там же. С. 100).]. Миф, в отличие от множества, создает «общее бытие» (а не со-бытие). Предлагая миф о собственном формировании, истоке, этот рассказ соотносит «общее бытие» с истиной, которая сама приобретает черты некоего единства, целостности: «…миф не только создан из своей собственной истины, sui generis, а, может быть, имеет тенденцию стать самой этой истиной…»[87 - Там же. С. 105.] В качестве модели такого мифа Нанси приводит рассказ, бытующий среди индейцев Гарани и так описанный Пьером Кластром: