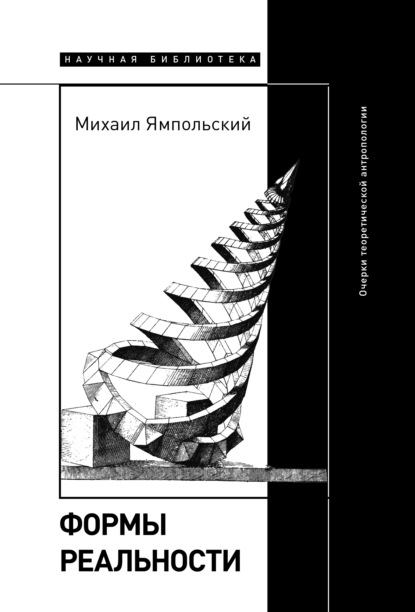По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Формы реальности. Очерки теоретической антропологии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Формы реальности. Очерки теоретической антропологии
Михаил Бениаминович Ямпольский
Человек не может существовать и действовать в мире, не преобразуя его в мыслимую тотальность, а значит, не придав ему форму. Этот способ взаимодействия с реальностью возможен только тогда, когда мы дистанцируемся от нее и занимаем позицию наблюдателя. В своей новой книге Михаил Ямпольский обращается к проблеме формы не только как способа преобразования материала в искусстве, но и как фундаментальной категории человеческого сознания. Именно поэтому автор предлагает рассматривать этот труд как набросок нового подхода к теоретической антропологии, сквозь призму которого Ямпольский рассматривает варианты возникновения форм внешнего и внутреннего миров, обращает внимание как на их взаимопроникновение, так и распад, особенно актуальный в наши дни. Михаил Ямпольский – историк и теоретик искусства и культуры, философ, киновед и филолог. Профессор Нью-Йоркского университета, доктор искусствоведения. До переезда в Америку работал во ВНИИ киноискусства и Институте философии РАН. Среди книг, изданных в «НЛО»: «Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла» (2004), «Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре» (2007), «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности» (2010), «Пригов» (2016).
Михаил Ямпольский
Формы реальности. Очерки теоретической антропологии
…утверждать, что мир ни на что не похож и не имеет формы, все равно что сказать, что мир – это нечто вроде паука или плевка[1 - Bataille G. Informe // Georges Bataille. Cuvres compl?tes. V. 1. Paris: Gallimard, 1970. Р. 217.].
Жорж Батай
ПРЕДИСЛОВИЕ.
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
СУРИО, ДЕЛЁЗ И ГВАТТАРИ, КАСПАР ДАВИД ФРИДРИХ
Эта книга – попытка создать набросок теоретической антропологии формы. К проблеме формы я обращался в своей предыдущей книге «Ловушка для льва. Модернистская форма как способ мышления без понятий и „больших идей“». В этой книге меня интересовал феномен формы в модернистском искусстве, литературе и эстетике конца XIX – начала ХХ века. Вопрос, который меня волновал, касался «загадочного» (для меня) повсеместного отказа от идеи искусства как адекватного отражения реальности и повсеместного же изобретения множества совершенно разных и далеких от прямой имитации «реальности» художественных форм. Эта книжка является продолжением «Ловушки», хотя связь между ними далеко не очевидна. Форма тут понимается не как способ организации материала в произведении искусства, но гораздо шире – как элемент антропологии, то есть самосознания человека в самом широком смысле слова.
Книга называется «Формы реальности», хотя мы знаем, что у реальности нет формы. Мы включены в мир совсем на иных принципах, нежели принцип формы. В качестве эпиграфа я взял слова Жоржа Батая: «…утверждать, что мир ни на что не похож и не имеет формы [n’est qu’informe], все равно что сказать, что мир – это нечто вроде паука или плевка». Батай объяснял, что само слово «бесформенный» означает требование разрушить классификации и смысл. Он замечает, что форма – это соответствие академическим требованиям, в том числе и философским: «Вся философия не имеет иной цели, как напялить на существующее сюртук, являющийся одновременно математическим сюртуком»[2 - Bataille G. Informe // Bataille G. Cuvres compl?tes. V. 1. Paris, Gallimard, 1970. Р. 217.]. Откуда же в мире берется форма?
Ее истоком, по-видимому, можно считать форму тела любого животного, и человека в том числе. Все живое наделено формой, развитие жизни может пониматься в категориях морфогенеза. Швейцарский зоолог Адольф Портман посвятил несколько замечательных книг внешнему виду животных[3 - См., например: Portmann A. Animal Forms and Patterns. A Study of the Appearance of Animals. New York: Schocken Books, 1967. О Портмане подробнее я пишу в книге: Ямпольский М. Изображение: Курс лекций. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 57–60.]. И показал, что жизнь требует от одного вида обнаруживать внешнее отличие от другого. Это обнаружение отличия и его анонсирование он называл Selbstdarstellung. Оно проявляется, прежде всего, в создании формы, обладающей отчетливым эстетическим элементом, например симметрией или яркостью цвета, скажем, у птиц. Симметрия – этот принцип организации формы живого – распространяется только на внешний облик (внутренние органы ему не подчиняются).
Возможность наделения человеческого тела формой создает основания для складывания общества и своего рода стихийной антропологии. Форма тела и лица (а мы обладаем уникальной способностью запоминать и различать лица) позволяет различать своего и чужого, друга и врага. Форма тела играет огромную роль в половом подборе. Образы тела (в том числе и зеркальные) порождают разные типы сексуальности и организуют выбор сексуального объекта и т. д. Антропология в значительной степени укоренена в форму тела. Но само значение такой формы возможно только при наличии зрения и дистанции, которая позволяет сложиться форме как образу, гештальту, целостности. Там, где мы говорим о форме, мы всегда говорим о дистанции, о взгляде «издалека».
Гораздо более проблемным понятие формы становится при его переносе с живого тела на мир и среду. Мир не является живой тотальностью, всегда отделяющей себя от окружения и противостоящей энтропии неодушевленного. И тем не менее мы всегда стремимся представить себе мир как целостность, то есть спроецировать на него образы телесности. Этим сомнительным попыткам посвящена вторая часть этой книги. Попытки эти также опираются, на мой взгляд, на принцип дистанции и гештальтирования, хотя между нами и миром нет дистанции, мы погружены в мир. Когда-то Эрнст Блох обратил внимание на то, что, создавая пейзаж как некую форму природы, художник вынужден дистанцировать себя от природы. Живописный пейзаж – это, собственно, и есть природа, отделенная от нас и как бы увиденная через раму окна, ставшую рамой картины:
Где начинается на картинке представленный на ней пейзаж? Художник не включает себя в картину, хотя он тоже непосредственно включен в пейзаж в качестве внутренней границы Непосредственного. Между тем второй круг непосредственности, подлинный передний план картины, также может быть объективирован с трудом. Он содержит в себе слишком много близости к месту, где находится художник. И именно неопределенность, создаваемая близостью, является причиной относительного отсутствия развитой формы пространства первого плана, причиной того факта, что он не относится к подлинному ландшафту в полной мере. Изображаемый пейзаж, таким образом, начинается не только, что само собой разумеется, вне художника, его рисующего, но и за размытыми объектами его непосредственного окружения[4 - Bloch E. The Principle of Hope. Vol. 1. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986. Р. 296.].
Блох хорошо показывает, что в живописном пейзаже есть некий первый план, отделяющий собственно пейзаж от художника, маркирующий дистанцию, и в этом неопределенном первом плане обнаруживается «относительное отсутствие развитой формы пространства». Чтобы произвести мир как форму, человек вынужден представить себя вне мира.
Расстояние между наблюдателем и миром соответствует дистанции между субъектом и объектом кантовской репрезентации, которая уже два столетия понуждает философов к ее критике и поиску способов ее разрушения. Репрезентация всегда дистанционна, и я убежден, что современный интерес к травмам, аффектам и непосредственности – это выражение желания установить иную форму контакта с миром, нежели репрезентация. Мир, однако, уже по мнению Канта, не может быть нам дан как объект репрезентации. Кант называл само понятие мира «регулятивной идеей чисто спекулятивного разума». Мир он отождествлял с природой, которая представлена нам в своей двойственности. Стоит вчитаться в соответствующий пассаж из «Критики чистого разума»:
Вторая регулятивная идея чисто спекулятивного разума есть понятие мира вообще. Действительно, природа, собственно, есть единственный данный объект, в отношении которого разум нуждается в регулятивных принципах. Эта природа двойственна: она есть или мыслящая, или телесная природа. Чтобы мыслить одну лишь телесную природу по ее внутренней возможности, т. е. определять применение к ней категорий, мы не нуждаемся в идее, т. е. в представлении, выходящем за пределы опыта; к тому же в отношении телесной природы и невозможна никакая идея, так как мы руководствуемся в ней только чувственным созерцанием, а не так, как в психологическом основании понятия (Я), которое а priori содержит определенную форму мышления, а именно единство мышления[5 - Кант И. Сочинения: В 8 т. Т. 3. М.: Чоро, 1994. С. 509.].
Иными словами, в той мере, в какой понятие природы относится к живой телесности, мы не нуждаемся для ее схватывания ни в какой идее. Тело дано нам в непосредственном опыте. Но когда мы переходим от тела к неодушевленной природе, необъятной в своей экстенсивности, мы переносим представление, эмпирически работающее в области телесного, на совершенно иной «объект», и тут мы нуждаемся в идее:
…для чистого разума нам остается только природа вообще и полнота условий в ней согласно некоторому принципу. Абсолютная полнота рядов этих условий при выведении их членов есть идея, которая в эмпирическом применении разума никогда, правда, не может быть полностью осуществлена, однако все же служит правилом, руководствуясь которым мы должны поступать по отношению к таким рядам, а именно при объяснении данных явлений (в нисхождении или восхождении), так, как если бы ряд сам по себе был бесконечным, т. е. in indefinitum; там же, где сам разум рассматривается как определяющая причина (в свободе), следовательно, где речь идет о практических принципах, мы должны поступать так, как если бы перед нами находился не объект чувств, а объект чистого рассудка, где условия могут полагаться не в ряду явлений, а вне его, и ряд состояний может рассматриваться так, как если бы он начинался прямо (посредством интеллигибельной причины)[6 - Кант И. Сочинения. Т. 3. С. 509–510.].
Единство природы или мира не дано нам эмпирически, как «объект» созерцания. Оно выводится из некой «полноты рядов», из способности этих пронизывающих ее рядов длиться до бесконечности, создавать полноту континуума. А сами эти чисто умозрительные ряды укоренены не в том, что дает нам зрение или опыт, а в деятельность рассудка: «как если бы перед нами находился не объект чувств, а объект чистого рассудка…» Поскольку эти умозрительные ряды порождены рассудком, то все они восходят к некой «интеллигибельной общей причине», которую Кант отождествляет с Богом. Мир – это рассудочный конструкт, форма которого не эмпирическая, но умозрительная. Некоторые пути конструирования этой формы рассмотрены во второй части книги.
Третья часть посвящена попыткам сконструировать внутренний «психологический» мир человека, который еще больше сопротивляется понятию формы, чем мир. Это связано, прежде всего, с тем, что внутренний мир отменяет понятие дистанции и строится в режиме абсолютной непосредственности. В этой перспективе меня особенно заинтересовал психоанализ, который, например, у Лакана совершенно, на мой взгляд, закономерно приходит к топологии, то есть конструированию таких противоречивых и парадоксальных пространств, которые не поддаются гештальтированию. Любопытно, что Лакан движется в сторону батайевского бесформенного от зеркальных imagos, двойников и повышенного интереса к формам телесного. Книга завершается рассмотрением некоторых идей Делёза и Гваттари, предпринявших одну из самых на сегодняшний день радикальных попыток выйти за рамки репрезентации, – отсюда вся проблематика интенсивности, потоков, молекулярности и т. д. Эти интереснейшие попытки мыслить вне формы, однако, имеют свои границы, так как толкают нас почти за пределы наших мыслительных способностей.
Я для себя определяю жанр этой книги как «очерки теоретической антропологии». Это связано с тем, что проекция формы на реальность для меня – фундаментальный антропологический феномен, характеризующий современность в самом широком смысле этого слова. Сама по себе антропология как научная дисциплина становится возможной только тогда, когда религиозное сознание освобождает пространство для человека. До эпохи монотеизма, удалившего бога из непосредственной близости в сферу трансцендентного, по-видимому, не существовало проблемы отделенности, дистанцированности человека от мира. Как замечает Марсель Гоше, перенесение творения оснований мира в мифологическое прошлое «неизбежно производит эффект включения или погружения человеческого порядка в порядок природы и их итоговой неотделимости»[7 - Gauchet M. Le dеsenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985. Р. 83.].
Соответственно, вплоть до Возрождения в значительной мере не существовало и проблемы человека, его место в мире было определено догматическими онтологическими иерархиями. Но с момента, когда незыблемость этих иерархий была подвергнута сомнению, возник вопрос о сущности человека и его месте в мире. Хорошо известны многочисленные и неудавшиеся попытки определить сущность человека. Человек никогда не давался этим определениям.
Хайдеггер в «Письме о гуманизме» точно ухватил ядро этой проблемы, когда писал: «Всякое определение человеческого существа, заранее предполагающее, будь то сознательно или бессознательно, истолкование сущего в обход вопроса об истине бытия, метафизично»[8 - Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 197.]. Бытие же человека неотделимо от его актуального существования, экзистенции:
Existentia остается термином, означающим действительное существование того, чем нечто является по своей идее. Фраза «человек экзистирует» отвечает не на вопрос, существует ли человек в действительности или нет, она отвечает на вопрос о «существе» человека[9 - Там же. С. 200.].
Дело, однако, не просто в определении человека, а в том, что сам человек испытывал чувство своей неопределенности в связи с «ущербностью» собственного существования.
Это ощущение хорошо передал Фернандо Пессоа в «Книге непокоя». Поэта не оставляет ощущение неполноты собственного существования и его крайней неопределенности: «У меня нет представления о себе самом, даже такого, которое заключается в отсутствии идеи о себе самом. Я кочую в попытках осознать себя»[10 - Пессоа Ф. Книга непокоя. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. Цитирую по электронному изданию без пагинации. Фрагмент 107.]. Или: «Я уже давно не я» (фр. 139). Пессоа не только не может постичь собственную идентичность, его преследует ощущение неспособности соприкоснуться с жизнью и почувствовать полноту существования:
Я даже не играл себя. Меня играли. Я был не актером, а его жестами. Все, что я сделал, о чем думал, чем был, есть сумма подчинений либо ложному сущему, которое я считал своим, потому что я действовал вовне, находясь в нем, либо бремени обстоятельств, которые я принял за воздух, коим я дышал. <…> Я знаю, что ошибался и заблуждался, что никогда не жил и существовал лишь потому, что заполнял время сознанием и размышлением (фр. 39).
Эта неполнота существования каким-то образом связана с тем миром ощущений, в которых живет поэт. Эти ощущения дисперсны и смутны. Сама эта неопределенность парадоксально порождается тем самым дистанцированием, которое призвано придать окружающему отчетливость формы. Но дистанция не позволяет форме возникнуть, так как расстояние между глазом и объектом замутнено, и ведет вместо формы к бесформенности: «Между мной и жизнью всегда были матовые стекла: я их не видел и не осязал; я не жил этой жизнью или в этой плоскости, я был блужданием того, чем хотел быть…» (фр. 399). Этот образ стекла между поэтом и жизнью, отсылающий к знаменитому высказыванию апостола Павла о «смутном стекле» или зеркале, возникает не единожды: «Между мной и жизнью – тонкое стекло. Как бы отчетливо я ни видел и ни понимал жизнь, я не могу ее коснуться» (фр. 80).
Пессоа крайне чувствителен, но парадоксальным образом эта чувствительность не влечет за собой переживания полноты существования. «Стекло» возникает не от отсутствия чувствительности. Скорее наоборот. В 78?м фрагменте он пытается уточнить, в чем связь его чувствительности и нехватки существования:
Есть ощущения, которые являются снами и, занимая, словно туман, всю протяженность духа, не дают думать, не дают действовать, не дают отчетливо существовать. Как если бы мы не выспались, в нас остается что-то ото сна и неподвижность дневного солнца раскаляет оцепеневшую поверхность чувств. <…> Смотришь, но не видишь. <…> Теряется возможность придать смысл тому, что видишь, но, разумеется, хорошо видно, что это.
Речь идет об ощущениях, которые не позволяют «отчетливо существовать», хотя «поверхность чувств» и раскалена. И Пессоа ставит ясный диагноз – ощущения позволяют видеть нечто, но это нечто не обретает смысла. Только «смысл» видимого способен обеспечить полноту существования. Это понимание без смысла и делает Пессоа чуждым самому себе: «…я подобен путешественнику, который вдруг оказывается в чужом городе, но не знает, как он туда попал; и мне вспоминаются случаи тех, кто утратил память и надолго стал другим человеком» (фр. 39). Но в какое-то мгновение чувствительность поэта наполняет вспышка полноты существования:
Вдруг, как если бы судьба-хирург, прооперировав мою застарелую слепоту, добилась мгновенных результатов, я поднимаю голову от моей безымянной жизни для ясного понимания того, как я существую. И вижу, что все, что я сделал, все, о чем думал, все, чем был, есть разновидность обмана и безумия. Я изумляюсь тому, что прежде умудрялся этого не видеть. Удивляюсь, каким я был, и вижу, что я на самом деле не такой. Я смотрю, словно на простор, который озаряет прорывающееся сквозь тучи солнце, на свою прошлую жизнь; и отмечаю с метафизическим ошеломлением, что все мои самые уверенные жесты, самые ясные мысли и самые логичные намерения, в конечном счете, были лишь прирожденным опьянением, естественным безумием, великим незнанием (фр. 39).
Эта острота достигается тем, что вся масса отчужденных впечатлений, видимых через тусклое стекло, вдруг складывается в смысл, то есть обретает форму. Пессоа подключается к этой преходящей смысловой конфигурации и переживает момент полноты бытия. Французский философ Давид Лапужад заметил, что в случае, описанном Пессоа, следует различать понятия существования и реальности. Существование не является гарантом реальности:
В каком-то смысле человек действительно существует, он занимает определенное пространство-время, он присутствует среди вещей, он встречается с прохожими на мосту, он собирает впечатления, мысли приходят ему на ум. И между тем, ничто из этого не является до конца реальным. Существа и вещи существуют, но им не хватает реальности[11 - Lapoujade D. Les existences moindres. Paris: Ed. de Minuit, 2017. Р. 11.].
Проблематика разной интенсивности и степеней реальности еще до Второй мировой войны привлекла внимание эстетика и философа Этьена Сурио. Режимы существования реальности прямо связаны с проблемой ее формы. Ведь форма может пониматься как маркер степени наличия реальности и, соответственно, ее постигаемости. Работы Сурио на эту тему были почти забыты, но интерес к ним возродился в связи с тем влиянием, которое он оказал на Делёза и Гваттари. Его книга 1943 года «Различные модусы существования» была недавно переиздана Брюно Латуром и Изабель Стенгерс, посвятившими философии Сурио большое исследование. С точки зрения Сурио, окружающая нас реальность всегда дается нам в незаконченном виде, никогда не достигая полноты существования. Реальность достигается, завоевывается и в принципе являет себя с разной степенью реализованности. Философ сравнивает реальность с произведением искусства, которое постепенно создается художником. Мы привыкли считать процесс творчества постепенной материализацией некоего видения в соответствии с платоновской моделью перевода идеи в материю. Сурио, однако, предлагает понимать этот процесс как медленное обретение произведением реальности и конкретности существования. Художник в этой перспективе оказывается не столько творцом, сколько акушером, помогающим реальности произведения обнаружить себя. Философ вообще систематически избегает слова «творение», «создание» и т. д., потому что они отсылают к порождению чего-то из идеи или из ничего. Вместо этого он постоянно употребляет термин l’ instauration, который я склонен переводить как «установление». Установление – это некое утверждение реальности, бытия, которое в принципе неподвластно человеку.
Сурио так пишет о процессе, который мы обычно называем творчеством:
Раскрывающееся бытие требует собственного существования. Во всем этом агент должен склониться перед волей, присущей произведению, угадать эту волю, отказаться от себя ради того автономного бытия, которое он стремится продвинуть в соответствии с тем правом, которым его наделяет существование. Нет ничего более важного среди всевозможных форм творчества, нежели это смирение творящего субъекта перед будущим произведением[12 - Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence suivi de Du mode d’ existence de l’ oeuvre ? faire. Paris: PUF, 2009. P. 208.].
Что же устанавливается в этом самоутверждении реальности произведения? Форма. Сурио обозначает ее режущим сегодня слух определением «духовная форма» (forme spirituelle). Слово «духовная» тут надо понимать прежде всего как нематериальная. Форма вообще нематериальна. Сурио даже пишет об «ангеле произведения», используя эту метафору, чтобы передать самопроявление новой реальности: «идею чего-то, как будто приходящего из иного мира»[13 - Ibid. P. 206.].
Сама идея формы как основания для установления реальности, конечно, делает Сурио яростным оппонентом Бергсона, с его идеей длительности и критикой перевода времени в пространственные формы. Но форма у Сурио не является чем-то замершим, она относится к разряду становящегося, усиливающего или ослабляющего реальность вещей. Она возникает на пересечении человеческой субъективности и независимой бытийственности произведения. И именно эта встреча человека с формой и есть событие утверждения реальности мира, но одновременно и реальности человека, которому форма произведения придает отчетливость, ясность, ускользавшие от Пессоа. Форма со времен Канта относится к области эстетики. Ее значение для философии Сурио обыкновенно объясняют постепенным дрейфованием философа в сторону эстетики. Но эстетика у него оказывается лишь моделью обретения вещами реальности в форме, а человеком – тени субстанциальности. Именно поэтому философия Сурио может быть полезной для преодоления пропасти между художественной формой (которую я обсуждаю в «Ловушке») и формой реальности, которая интересует меня в этой книжке.
Форма, как я уже говорил, не должна пониматься как некая вневременная платоновская идея. Она возникает и кристаллизуется в процессе творчества (почти как в биологическом морфогенезе), который Сурио описывает в терминах дистанции и близости, важных для меня. Художник позволяет произведению реализоваться, постоянно приближаясь к состоянию завершенности. Этот процесс описывается философом как сближение двух экзистенциальных составляющих – делания и сделанности. Делание движется в сторону сделанности, хотя ни один художник не знает точно, когда это состояние сделанности, завершенности окончательно достигнуто. Сурио говорит о постоянном риске остановиться в делании слишком рано или зайти слишком далеко. Ведь существуют художники, чьи эскизы и наброски гораздо сложнее и совершеннее, чем законченные произведения. Примером такого творца может послужить Александр Иванов, чьи эскизы значительно сильнее его «Явления Христа народу» в завершенной форме.
Расхождение между деланием и сделанным Сурио описывает как дистанцию, которая может возрастать или сокращаться. Пока дистанция значительна, мысль активно соотносит делание с тем, что уже сделано, и оценивает его. Дистанция всегда поддерживает активность субъекта и всегда определяет отношение человека с формой. Однако в какой-то момент расстояние между наброском и завершенностью исчезает:
Постоянно уменьшающаяся дистанция, это движение произведения являются постепенным сближением двух экзистенциальных аспектов произведения: требующего делания и сделанного. В момент последнего движения шпателя дистанция отменяется. Сформованная глина подобна точному зеркалу задуманного произведения [l’ oeuvre ? faire], а задуманное произведение как будто воплощается в глине. Они теперь составляют единое и неразличимое бытие [un seul et m?me ?tre][14 - Ibid. Р. 212.].
Сурио говорит о моменте отчуждения произведения от сознания художника. Конечно, в реальности этот момент тотальной гегелевской адекватности недостижим. Это мгновение исчезновения художника, его исключения из произведения и одновременно утверждения реальности последнего, которая тоже, конечно, в полной мере недостижима. Происходит установление реальности, полностью поглощающей «духовную форму», которая ее производит.
Сурио говорит о разных степенях и модусах существования, которые устанавливаются в этом процессе. В качестве первого модуса он рассматривает феномены. Они отмечены непосредственным и «реальным» присутствием. Они даны нам в ощущениях, хотя целиком и не могут быть к ним сведены. Сурио называет главным свойством феноменов, которые обнаруживают себя для нас в «сиянии присутствия» – patuitе (от слова pathos, то есть чувствование), – способность эмпатически достигаться в интуиции. Феномен не отсылает ни к чему другому, кроме себя, он самодостаточен в том смысле, что не является феноменом чего-то иного:
Он осознается в своем собственно экзистенциальном статусе в той мере, в какой мы чувствуем, что он сам себя держит, и являет в самом себе то, что может его обосновывать и уплотняться в нем и с его помощью. Именно в этом смысле он является моделью и эталоном существования[15 - Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence. P. 119.].
Вторым модусом существования философ называет l’ existence rеique, то есть вещное существование (от латинского res – вещь). Вещь отличается от феномена. И главное их отличие в том, что вещь «численно единична» и обладает идентичностью. Сурио также говорит о ее независимости от ситуации. Феномен зависит от ситуации в том смысле, что он дается нам в определенный момент, в определенном освещении, в видимости фактуры и цвета, которыми он отмечен. Вещь независима от такого рода ситуаций. В качестве примера он приводит ленту, многократно сложенную и проткнутую иголкой. Если эту ленту потом развернуть, мы увидим на ней многократно повторенное отверстие, которое в плоскости феномена будет множеством дыр, отсылающим к множеству игл. В вещном существовании речь будет, однако, идти об одном отверстии и одной игле. Единичность вещи тут преодолевает множественность феноменальных аспектов. Когда появляется единичная в своей идентичности вещь, она утрачивает локализацию во времени и пространстве. Как пишут Латур и Стенгерс, «она никогда не находится где-то»[16 - Stengers I., Latour B. Le sphinx de l’ Cuvre // Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence suivi de Du mode d’ existence de l’ oeuvre ? faire. Paris: PUF, 2009. P. 40.]. Странность вещи заключается в том, что она, приобретая интенсивность «подлинного существования», утрачивает место и время и начинает целиком зависеть от способности человека устанавливать некие повторяемые, воспроизводимые единства. Сурио говорит о том, что вещи обретают монументальность идентичности, но при этом укоренены в непротиворечивости и связях. Вещь не укоренена в саму себя подобно феномену. Это совершенно иной модус действительности.
Третий модус – l’ existence sollicitudinaire, в приблизительном переводе – существование озабоченности. Эта «реальность» населена призраками, фантомами, персонажами художественных произведений – всевозможными химерами нашего воображения. Вещь зависит от нашего сознания в той мере, в какой она возникает как результат непротиворечивой связности. Но это странное, безличное сознание. В вещном существовании не задействована субъективность. Это сознание как бы вне субъекта. Зато существование озабоченности связано с субъективной точкой зрения, которую Сурио обозначает термином Августа Шмарсова Ichpunkt. При этом не следует считать эти призраки чистыми конструктами мысли, несмотря на то что их реальность и укоренена в «позитивность» психологии. И хотя они не соотносятся с вещами и телами, они заимствуют в мире феноменов феноменальные черты. Воображаемая собака, как говорит Сурио, «участвует в онтическом собаки». Эти воображаемые реалии могут иметь различную степень интенсивности, определяемую тем эмоциональным качеством, той озабоченностью, которая их порождает. Их подобие феноменам ограничено тем, что они не детерминированы ситуацией и никак не связаны с материальной актуальностью. Этот отрыв и есть основополагающая черта их особого модуса существования.
Затем следуют реалии, чье существование виртуально. Эти вещи существуют, хотя их нет. Сурио приводит в пример обрушившуюся архитектурную арку, которая легко материализуется из своего небытия, может быть нарисована и/или восстановлена на основании той руины, которая осталась после катастрофы. Философ пишет об этом модусе, что он «особенно богат множественностью присутствий, которые отсутствуют»[17 - Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence. Р. 137.]. Этот модус существования особенно экономичен. По когтю он позволяет восстановить целую фигуру льва. Этот модус всегда требует основания в вещи.
Михаил Бениаминович Ямпольский
Человек не может существовать и действовать в мире, не преобразуя его в мыслимую тотальность, а значит, не придав ему форму. Этот способ взаимодействия с реальностью возможен только тогда, когда мы дистанцируемся от нее и занимаем позицию наблюдателя. В своей новой книге Михаил Ямпольский обращается к проблеме формы не только как способа преобразования материала в искусстве, но и как фундаментальной категории человеческого сознания. Именно поэтому автор предлагает рассматривать этот труд как набросок нового подхода к теоретической антропологии, сквозь призму которого Ямпольский рассматривает варианты возникновения форм внешнего и внутреннего миров, обращает внимание как на их взаимопроникновение, так и распад, особенно актуальный в наши дни. Михаил Ямпольский – историк и теоретик искусства и культуры, философ, киновед и филолог. Профессор Нью-Йоркского университета, доктор искусствоведения. До переезда в Америку работал во ВНИИ киноискусства и Институте философии РАН. Среди книг, изданных в «НЛО»: «Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла» (2004), «Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре» (2007), «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности» (2010), «Пригов» (2016).
Михаил Ямпольский
Формы реальности. Очерки теоретической антропологии
…утверждать, что мир ни на что не похож и не имеет формы, все равно что сказать, что мир – это нечто вроде паука или плевка[1 - Bataille G. Informe // Georges Bataille. Cuvres compl?tes. V. 1. Paris: Gallimard, 1970. Р. 217.].
Жорж Батай
ПРЕДИСЛОВИЕ.
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
СУРИО, ДЕЛЁЗ И ГВАТТАРИ, КАСПАР ДАВИД ФРИДРИХ
Эта книга – попытка создать набросок теоретической антропологии формы. К проблеме формы я обращался в своей предыдущей книге «Ловушка для льва. Модернистская форма как способ мышления без понятий и „больших идей“». В этой книге меня интересовал феномен формы в модернистском искусстве, литературе и эстетике конца XIX – начала ХХ века. Вопрос, который меня волновал, касался «загадочного» (для меня) повсеместного отказа от идеи искусства как адекватного отражения реальности и повсеместного же изобретения множества совершенно разных и далеких от прямой имитации «реальности» художественных форм. Эта книжка является продолжением «Ловушки», хотя связь между ними далеко не очевидна. Форма тут понимается не как способ организации материала в произведении искусства, но гораздо шире – как элемент антропологии, то есть самосознания человека в самом широком смысле слова.
Книга называется «Формы реальности», хотя мы знаем, что у реальности нет формы. Мы включены в мир совсем на иных принципах, нежели принцип формы. В качестве эпиграфа я взял слова Жоржа Батая: «…утверждать, что мир ни на что не похож и не имеет формы [n’est qu’informe], все равно что сказать, что мир – это нечто вроде паука или плевка». Батай объяснял, что само слово «бесформенный» означает требование разрушить классификации и смысл. Он замечает, что форма – это соответствие академическим требованиям, в том числе и философским: «Вся философия не имеет иной цели, как напялить на существующее сюртук, являющийся одновременно математическим сюртуком»[2 - Bataille G. Informe // Bataille G. Cuvres compl?tes. V. 1. Paris, Gallimard, 1970. Р. 217.]. Откуда же в мире берется форма?
Ее истоком, по-видимому, можно считать форму тела любого животного, и человека в том числе. Все живое наделено формой, развитие жизни может пониматься в категориях морфогенеза. Швейцарский зоолог Адольф Портман посвятил несколько замечательных книг внешнему виду животных[3 - См., например: Portmann A. Animal Forms and Patterns. A Study of the Appearance of Animals. New York: Schocken Books, 1967. О Портмане подробнее я пишу в книге: Ямпольский М. Изображение: Курс лекций. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 57–60.]. И показал, что жизнь требует от одного вида обнаруживать внешнее отличие от другого. Это обнаружение отличия и его анонсирование он называл Selbstdarstellung. Оно проявляется, прежде всего, в создании формы, обладающей отчетливым эстетическим элементом, например симметрией или яркостью цвета, скажем, у птиц. Симметрия – этот принцип организации формы живого – распространяется только на внешний облик (внутренние органы ему не подчиняются).
Возможность наделения человеческого тела формой создает основания для складывания общества и своего рода стихийной антропологии. Форма тела и лица (а мы обладаем уникальной способностью запоминать и различать лица) позволяет различать своего и чужого, друга и врага. Форма тела играет огромную роль в половом подборе. Образы тела (в том числе и зеркальные) порождают разные типы сексуальности и организуют выбор сексуального объекта и т. д. Антропология в значительной степени укоренена в форму тела. Но само значение такой формы возможно только при наличии зрения и дистанции, которая позволяет сложиться форме как образу, гештальту, целостности. Там, где мы говорим о форме, мы всегда говорим о дистанции, о взгляде «издалека».
Гораздо более проблемным понятие формы становится при его переносе с живого тела на мир и среду. Мир не является живой тотальностью, всегда отделяющей себя от окружения и противостоящей энтропии неодушевленного. И тем не менее мы всегда стремимся представить себе мир как целостность, то есть спроецировать на него образы телесности. Этим сомнительным попыткам посвящена вторая часть этой книги. Попытки эти также опираются, на мой взгляд, на принцип дистанции и гештальтирования, хотя между нами и миром нет дистанции, мы погружены в мир. Когда-то Эрнст Блох обратил внимание на то, что, создавая пейзаж как некую форму природы, художник вынужден дистанцировать себя от природы. Живописный пейзаж – это, собственно, и есть природа, отделенная от нас и как бы увиденная через раму окна, ставшую рамой картины:
Где начинается на картинке представленный на ней пейзаж? Художник не включает себя в картину, хотя он тоже непосредственно включен в пейзаж в качестве внутренней границы Непосредственного. Между тем второй круг непосредственности, подлинный передний план картины, также может быть объективирован с трудом. Он содержит в себе слишком много близости к месту, где находится художник. И именно неопределенность, создаваемая близостью, является причиной относительного отсутствия развитой формы пространства первого плана, причиной того факта, что он не относится к подлинному ландшафту в полной мере. Изображаемый пейзаж, таким образом, начинается не только, что само собой разумеется, вне художника, его рисующего, но и за размытыми объектами его непосредственного окружения[4 - Bloch E. The Principle of Hope. Vol. 1. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986. Р. 296.].
Блох хорошо показывает, что в живописном пейзаже есть некий первый план, отделяющий собственно пейзаж от художника, маркирующий дистанцию, и в этом неопределенном первом плане обнаруживается «относительное отсутствие развитой формы пространства». Чтобы произвести мир как форму, человек вынужден представить себя вне мира.
Расстояние между наблюдателем и миром соответствует дистанции между субъектом и объектом кантовской репрезентации, которая уже два столетия понуждает философов к ее критике и поиску способов ее разрушения. Репрезентация всегда дистанционна, и я убежден, что современный интерес к травмам, аффектам и непосредственности – это выражение желания установить иную форму контакта с миром, нежели репрезентация. Мир, однако, уже по мнению Канта, не может быть нам дан как объект репрезентации. Кант называл само понятие мира «регулятивной идеей чисто спекулятивного разума». Мир он отождествлял с природой, которая представлена нам в своей двойственности. Стоит вчитаться в соответствующий пассаж из «Критики чистого разума»:
Вторая регулятивная идея чисто спекулятивного разума есть понятие мира вообще. Действительно, природа, собственно, есть единственный данный объект, в отношении которого разум нуждается в регулятивных принципах. Эта природа двойственна: она есть или мыслящая, или телесная природа. Чтобы мыслить одну лишь телесную природу по ее внутренней возможности, т. е. определять применение к ней категорий, мы не нуждаемся в идее, т. е. в представлении, выходящем за пределы опыта; к тому же в отношении телесной природы и невозможна никакая идея, так как мы руководствуемся в ней только чувственным созерцанием, а не так, как в психологическом основании понятия (Я), которое а priori содержит определенную форму мышления, а именно единство мышления[5 - Кант И. Сочинения: В 8 т. Т. 3. М.: Чоро, 1994. С. 509.].
Иными словами, в той мере, в какой понятие природы относится к живой телесности, мы не нуждаемся для ее схватывания ни в какой идее. Тело дано нам в непосредственном опыте. Но когда мы переходим от тела к неодушевленной природе, необъятной в своей экстенсивности, мы переносим представление, эмпирически работающее в области телесного, на совершенно иной «объект», и тут мы нуждаемся в идее:
…для чистого разума нам остается только природа вообще и полнота условий в ней согласно некоторому принципу. Абсолютная полнота рядов этих условий при выведении их членов есть идея, которая в эмпирическом применении разума никогда, правда, не может быть полностью осуществлена, однако все же служит правилом, руководствуясь которым мы должны поступать по отношению к таким рядам, а именно при объяснении данных явлений (в нисхождении или восхождении), так, как если бы ряд сам по себе был бесконечным, т. е. in indefinitum; там же, где сам разум рассматривается как определяющая причина (в свободе), следовательно, где речь идет о практических принципах, мы должны поступать так, как если бы перед нами находился не объект чувств, а объект чистого рассудка, где условия могут полагаться не в ряду явлений, а вне его, и ряд состояний может рассматриваться так, как если бы он начинался прямо (посредством интеллигибельной причины)[6 - Кант И. Сочинения. Т. 3. С. 509–510.].
Единство природы или мира не дано нам эмпирически, как «объект» созерцания. Оно выводится из некой «полноты рядов», из способности этих пронизывающих ее рядов длиться до бесконечности, создавать полноту континуума. А сами эти чисто умозрительные ряды укоренены не в том, что дает нам зрение или опыт, а в деятельность рассудка: «как если бы перед нами находился не объект чувств, а объект чистого рассудка…» Поскольку эти умозрительные ряды порождены рассудком, то все они восходят к некой «интеллигибельной общей причине», которую Кант отождествляет с Богом. Мир – это рассудочный конструкт, форма которого не эмпирическая, но умозрительная. Некоторые пути конструирования этой формы рассмотрены во второй части книги.
Третья часть посвящена попыткам сконструировать внутренний «психологический» мир человека, который еще больше сопротивляется понятию формы, чем мир. Это связано, прежде всего, с тем, что внутренний мир отменяет понятие дистанции и строится в режиме абсолютной непосредственности. В этой перспективе меня особенно заинтересовал психоанализ, который, например, у Лакана совершенно, на мой взгляд, закономерно приходит к топологии, то есть конструированию таких противоречивых и парадоксальных пространств, которые не поддаются гештальтированию. Любопытно, что Лакан движется в сторону батайевского бесформенного от зеркальных imagos, двойников и повышенного интереса к формам телесного. Книга завершается рассмотрением некоторых идей Делёза и Гваттари, предпринявших одну из самых на сегодняшний день радикальных попыток выйти за рамки репрезентации, – отсюда вся проблематика интенсивности, потоков, молекулярности и т. д. Эти интереснейшие попытки мыслить вне формы, однако, имеют свои границы, так как толкают нас почти за пределы наших мыслительных способностей.
Я для себя определяю жанр этой книги как «очерки теоретической антропологии». Это связано с тем, что проекция формы на реальность для меня – фундаментальный антропологический феномен, характеризующий современность в самом широком смысле этого слова. Сама по себе антропология как научная дисциплина становится возможной только тогда, когда религиозное сознание освобождает пространство для человека. До эпохи монотеизма, удалившего бога из непосредственной близости в сферу трансцендентного, по-видимому, не существовало проблемы отделенности, дистанцированности человека от мира. Как замечает Марсель Гоше, перенесение творения оснований мира в мифологическое прошлое «неизбежно производит эффект включения или погружения человеческого порядка в порядок природы и их итоговой неотделимости»[7 - Gauchet M. Le dеsenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985. Р. 83.].
Соответственно, вплоть до Возрождения в значительной мере не существовало и проблемы человека, его место в мире было определено догматическими онтологическими иерархиями. Но с момента, когда незыблемость этих иерархий была подвергнута сомнению, возник вопрос о сущности человека и его месте в мире. Хорошо известны многочисленные и неудавшиеся попытки определить сущность человека. Человек никогда не давался этим определениям.
Хайдеггер в «Письме о гуманизме» точно ухватил ядро этой проблемы, когда писал: «Всякое определение человеческого существа, заранее предполагающее, будь то сознательно или бессознательно, истолкование сущего в обход вопроса об истине бытия, метафизично»[8 - Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 197.]. Бытие же человека неотделимо от его актуального существования, экзистенции:
Existentia остается термином, означающим действительное существование того, чем нечто является по своей идее. Фраза «человек экзистирует» отвечает не на вопрос, существует ли человек в действительности или нет, она отвечает на вопрос о «существе» человека[9 - Там же. С. 200.].
Дело, однако, не просто в определении человека, а в том, что сам человек испытывал чувство своей неопределенности в связи с «ущербностью» собственного существования.
Это ощущение хорошо передал Фернандо Пессоа в «Книге непокоя». Поэта не оставляет ощущение неполноты собственного существования и его крайней неопределенности: «У меня нет представления о себе самом, даже такого, которое заключается в отсутствии идеи о себе самом. Я кочую в попытках осознать себя»[10 - Пессоа Ф. Книга непокоя. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. Цитирую по электронному изданию без пагинации. Фрагмент 107.]. Или: «Я уже давно не я» (фр. 139). Пессоа не только не может постичь собственную идентичность, его преследует ощущение неспособности соприкоснуться с жизнью и почувствовать полноту существования:
Я даже не играл себя. Меня играли. Я был не актером, а его жестами. Все, что я сделал, о чем думал, чем был, есть сумма подчинений либо ложному сущему, которое я считал своим, потому что я действовал вовне, находясь в нем, либо бремени обстоятельств, которые я принял за воздух, коим я дышал. <…> Я знаю, что ошибался и заблуждался, что никогда не жил и существовал лишь потому, что заполнял время сознанием и размышлением (фр. 39).
Эта неполнота существования каким-то образом связана с тем миром ощущений, в которых живет поэт. Эти ощущения дисперсны и смутны. Сама эта неопределенность парадоксально порождается тем самым дистанцированием, которое призвано придать окружающему отчетливость формы. Но дистанция не позволяет форме возникнуть, так как расстояние между глазом и объектом замутнено, и ведет вместо формы к бесформенности: «Между мной и жизнью всегда были матовые стекла: я их не видел и не осязал; я не жил этой жизнью или в этой плоскости, я был блужданием того, чем хотел быть…» (фр. 399). Этот образ стекла между поэтом и жизнью, отсылающий к знаменитому высказыванию апостола Павла о «смутном стекле» или зеркале, возникает не единожды: «Между мной и жизнью – тонкое стекло. Как бы отчетливо я ни видел и ни понимал жизнь, я не могу ее коснуться» (фр. 80).
Пессоа крайне чувствителен, но парадоксальным образом эта чувствительность не влечет за собой переживания полноты существования. «Стекло» возникает не от отсутствия чувствительности. Скорее наоборот. В 78?м фрагменте он пытается уточнить, в чем связь его чувствительности и нехватки существования:
Есть ощущения, которые являются снами и, занимая, словно туман, всю протяженность духа, не дают думать, не дают действовать, не дают отчетливо существовать. Как если бы мы не выспались, в нас остается что-то ото сна и неподвижность дневного солнца раскаляет оцепеневшую поверхность чувств. <…> Смотришь, но не видишь. <…> Теряется возможность придать смысл тому, что видишь, но, разумеется, хорошо видно, что это.
Речь идет об ощущениях, которые не позволяют «отчетливо существовать», хотя «поверхность чувств» и раскалена. И Пессоа ставит ясный диагноз – ощущения позволяют видеть нечто, но это нечто не обретает смысла. Только «смысл» видимого способен обеспечить полноту существования. Это понимание без смысла и делает Пессоа чуждым самому себе: «…я подобен путешественнику, который вдруг оказывается в чужом городе, но не знает, как он туда попал; и мне вспоминаются случаи тех, кто утратил память и надолго стал другим человеком» (фр. 39). Но в какое-то мгновение чувствительность поэта наполняет вспышка полноты существования:
Вдруг, как если бы судьба-хирург, прооперировав мою застарелую слепоту, добилась мгновенных результатов, я поднимаю голову от моей безымянной жизни для ясного понимания того, как я существую. И вижу, что все, что я сделал, все, о чем думал, все, чем был, есть разновидность обмана и безумия. Я изумляюсь тому, что прежде умудрялся этого не видеть. Удивляюсь, каким я был, и вижу, что я на самом деле не такой. Я смотрю, словно на простор, который озаряет прорывающееся сквозь тучи солнце, на свою прошлую жизнь; и отмечаю с метафизическим ошеломлением, что все мои самые уверенные жесты, самые ясные мысли и самые логичные намерения, в конечном счете, были лишь прирожденным опьянением, естественным безумием, великим незнанием (фр. 39).
Эта острота достигается тем, что вся масса отчужденных впечатлений, видимых через тусклое стекло, вдруг складывается в смысл, то есть обретает форму. Пессоа подключается к этой преходящей смысловой конфигурации и переживает момент полноты бытия. Французский философ Давид Лапужад заметил, что в случае, описанном Пессоа, следует различать понятия существования и реальности. Существование не является гарантом реальности:
В каком-то смысле человек действительно существует, он занимает определенное пространство-время, он присутствует среди вещей, он встречается с прохожими на мосту, он собирает впечатления, мысли приходят ему на ум. И между тем, ничто из этого не является до конца реальным. Существа и вещи существуют, но им не хватает реальности[11 - Lapoujade D. Les existences moindres. Paris: Ed. de Minuit, 2017. Р. 11.].
Проблематика разной интенсивности и степеней реальности еще до Второй мировой войны привлекла внимание эстетика и философа Этьена Сурио. Режимы существования реальности прямо связаны с проблемой ее формы. Ведь форма может пониматься как маркер степени наличия реальности и, соответственно, ее постигаемости. Работы Сурио на эту тему были почти забыты, но интерес к ним возродился в связи с тем влиянием, которое он оказал на Делёза и Гваттари. Его книга 1943 года «Различные модусы существования» была недавно переиздана Брюно Латуром и Изабель Стенгерс, посвятившими философии Сурио большое исследование. С точки зрения Сурио, окружающая нас реальность всегда дается нам в незаконченном виде, никогда не достигая полноты существования. Реальность достигается, завоевывается и в принципе являет себя с разной степенью реализованности. Философ сравнивает реальность с произведением искусства, которое постепенно создается художником. Мы привыкли считать процесс творчества постепенной материализацией некоего видения в соответствии с платоновской моделью перевода идеи в материю. Сурио, однако, предлагает понимать этот процесс как медленное обретение произведением реальности и конкретности существования. Художник в этой перспективе оказывается не столько творцом, сколько акушером, помогающим реальности произведения обнаружить себя. Философ вообще систематически избегает слова «творение», «создание» и т. д., потому что они отсылают к порождению чего-то из идеи или из ничего. Вместо этого он постоянно употребляет термин l’ instauration, который я склонен переводить как «установление». Установление – это некое утверждение реальности, бытия, которое в принципе неподвластно человеку.
Сурио так пишет о процессе, который мы обычно называем творчеством:
Раскрывающееся бытие требует собственного существования. Во всем этом агент должен склониться перед волей, присущей произведению, угадать эту волю, отказаться от себя ради того автономного бытия, которое он стремится продвинуть в соответствии с тем правом, которым его наделяет существование. Нет ничего более важного среди всевозможных форм творчества, нежели это смирение творящего субъекта перед будущим произведением[12 - Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence suivi de Du mode d’ existence de l’ oeuvre ? faire. Paris: PUF, 2009. P. 208.].
Что же устанавливается в этом самоутверждении реальности произведения? Форма. Сурио обозначает ее режущим сегодня слух определением «духовная форма» (forme spirituelle). Слово «духовная» тут надо понимать прежде всего как нематериальная. Форма вообще нематериальна. Сурио даже пишет об «ангеле произведения», используя эту метафору, чтобы передать самопроявление новой реальности: «идею чего-то, как будто приходящего из иного мира»[13 - Ibid. P. 206.].
Сама идея формы как основания для установления реальности, конечно, делает Сурио яростным оппонентом Бергсона, с его идеей длительности и критикой перевода времени в пространственные формы. Но форма у Сурио не является чем-то замершим, она относится к разряду становящегося, усиливающего или ослабляющего реальность вещей. Она возникает на пересечении человеческой субъективности и независимой бытийственности произведения. И именно эта встреча человека с формой и есть событие утверждения реальности мира, но одновременно и реальности человека, которому форма произведения придает отчетливость, ясность, ускользавшие от Пессоа. Форма со времен Канта относится к области эстетики. Ее значение для философии Сурио обыкновенно объясняют постепенным дрейфованием философа в сторону эстетики. Но эстетика у него оказывается лишь моделью обретения вещами реальности в форме, а человеком – тени субстанциальности. Именно поэтому философия Сурио может быть полезной для преодоления пропасти между художественной формой (которую я обсуждаю в «Ловушке») и формой реальности, которая интересует меня в этой книжке.
Форма, как я уже говорил, не должна пониматься как некая вневременная платоновская идея. Она возникает и кристаллизуется в процессе творчества (почти как в биологическом морфогенезе), который Сурио описывает в терминах дистанции и близости, важных для меня. Художник позволяет произведению реализоваться, постоянно приближаясь к состоянию завершенности. Этот процесс описывается философом как сближение двух экзистенциальных составляющих – делания и сделанности. Делание движется в сторону сделанности, хотя ни один художник не знает точно, когда это состояние сделанности, завершенности окончательно достигнуто. Сурио говорит о постоянном риске остановиться в делании слишком рано или зайти слишком далеко. Ведь существуют художники, чьи эскизы и наброски гораздо сложнее и совершеннее, чем законченные произведения. Примером такого творца может послужить Александр Иванов, чьи эскизы значительно сильнее его «Явления Христа народу» в завершенной форме.
Расхождение между деланием и сделанным Сурио описывает как дистанцию, которая может возрастать или сокращаться. Пока дистанция значительна, мысль активно соотносит делание с тем, что уже сделано, и оценивает его. Дистанция всегда поддерживает активность субъекта и всегда определяет отношение человека с формой. Однако в какой-то момент расстояние между наброском и завершенностью исчезает:
Постоянно уменьшающаяся дистанция, это движение произведения являются постепенным сближением двух экзистенциальных аспектов произведения: требующего делания и сделанного. В момент последнего движения шпателя дистанция отменяется. Сформованная глина подобна точному зеркалу задуманного произведения [l’ oeuvre ? faire], а задуманное произведение как будто воплощается в глине. Они теперь составляют единое и неразличимое бытие [un seul et m?me ?tre][14 - Ibid. Р. 212.].
Сурио говорит о моменте отчуждения произведения от сознания художника. Конечно, в реальности этот момент тотальной гегелевской адекватности недостижим. Это мгновение исчезновения художника, его исключения из произведения и одновременно утверждения реальности последнего, которая тоже, конечно, в полной мере недостижима. Происходит установление реальности, полностью поглощающей «духовную форму», которая ее производит.
Сурио говорит о разных степенях и модусах существования, которые устанавливаются в этом процессе. В качестве первого модуса он рассматривает феномены. Они отмечены непосредственным и «реальным» присутствием. Они даны нам в ощущениях, хотя целиком и не могут быть к ним сведены. Сурио называет главным свойством феноменов, которые обнаруживают себя для нас в «сиянии присутствия» – patuitе (от слова pathos, то есть чувствование), – способность эмпатически достигаться в интуиции. Феномен не отсылает ни к чему другому, кроме себя, он самодостаточен в том смысле, что не является феноменом чего-то иного:
Он осознается в своем собственно экзистенциальном статусе в той мере, в какой мы чувствуем, что он сам себя держит, и являет в самом себе то, что может его обосновывать и уплотняться в нем и с его помощью. Именно в этом смысле он является моделью и эталоном существования[15 - Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence. P. 119.].
Вторым модусом существования философ называет l’ existence rеique, то есть вещное существование (от латинского res – вещь). Вещь отличается от феномена. И главное их отличие в том, что вещь «численно единична» и обладает идентичностью. Сурио также говорит о ее независимости от ситуации. Феномен зависит от ситуации в том смысле, что он дается нам в определенный момент, в определенном освещении, в видимости фактуры и цвета, которыми он отмечен. Вещь независима от такого рода ситуаций. В качестве примера он приводит ленту, многократно сложенную и проткнутую иголкой. Если эту ленту потом развернуть, мы увидим на ней многократно повторенное отверстие, которое в плоскости феномена будет множеством дыр, отсылающим к множеству игл. В вещном существовании речь будет, однако, идти об одном отверстии и одной игле. Единичность вещи тут преодолевает множественность феноменальных аспектов. Когда появляется единичная в своей идентичности вещь, она утрачивает локализацию во времени и пространстве. Как пишут Латур и Стенгерс, «она никогда не находится где-то»[16 - Stengers I., Latour B. Le sphinx de l’ Cuvre // Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence suivi de Du mode d’ existence de l’ oeuvre ? faire. Paris: PUF, 2009. P. 40.]. Странность вещи заключается в том, что она, приобретая интенсивность «подлинного существования», утрачивает место и время и начинает целиком зависеть от способности человека устанавливать некие повторяемые, воспроизводимые единства. Сурио говорит о том, что вещи обретают монументальность идентичности, но при этом укоренены в непротиворечивости и связях. Вещь не укоренена в саму себя подобно феномену. Это совершенно иной модус действительности.
Третий модус – l’ existence sollicitudinaire, в приблизительном переводе – существование озабоченности. Эта «реальность» населена призраками, фантомами, персонажами художественных произведений – всевозможными химерами нашего воображения. Вещь зависит от нашего сознания в той мере, в какой она возникает как результат непротиворечивой связности. Но это странное, безличное сознание. В вещном существовании не задействована субъективность. Это сознание как бы вне субъекта. Зато существование озабоченности связано с субъективной точкой зрения, которую Сурио обозначает термином Августа Шмарсова Ichpunkt. При этом не следует считать эти призраки чистыми конструктами мысли, несмотря на то что их реальность и укоренена в «позитивность» психологии. И хотя они не соотносятся с вещами и телами, они заимствуют в мире феноменов феноменальные черты. Воображаемая собака, как говорит Сурио, «участвует в онтическом собаки». Эти воображаемые реалии могут иметь различную степень интенсивности, определяемую тем эмоциональным качеством, той озабоченностью, которая их порождает. Их подобие феноменам ограничено тем, что они не детерминированы ситуацией и никак не связаны с материальной актуальностью. Этот отрыв и есть основополагающая черта их особого модуса существования.
Затем следуют реалии, чье существование виртуально. Эти вещи существуют, хотя их нет. Сурио приводит в пример обрушившуюся архитектурную арку, которая легко материализуется из своего небытия, может быть нарисована и/или восстановлена на основании той руины, которая осталась после катастрофы. Философ пишет об этом модусе, что он «особенно богат множественностью присутствий, которые отсутствуют»[17 - Souriau E. Les diffеrents modes d’ existence. Р. 137.]. Этот модус существования особенно экономичен. По когтю он позволяет восстановить целую фигуру льва. Этот модус всегда требует основания в вещи.