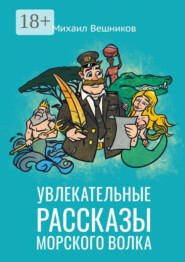По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Романтикам семидесятых посвящается
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стройотряды ставили целью не только прямой заработок, но в первую очередь воспитание студентов в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду. На них возлагались задачи по формированию высоких нравственных качеств и чувства патриотизма. Они рассматривались как важный институт социально-трудовой адаптации учащейся молодежи. Их деятельности сопутствовал проработанный церемониал; важную психологическую роль играли специальная стройотрядовская форма и символика. Так, перед тем, как приступить к возложенным на них обязанностям, на церемонии трудового сезона отрядам выдавали специальные паспорта-разрешения на работу. Романтика их бойцов дала культурам народов СССР огромное количество образцов стройотрядовской лирики – песен, стихов и пр.»
По разным оценкам, в семидесятые годы студенты работали на 30—35 тысячах объектов. Отдельного упоминания заслуживают БАМ (Байкало-Амурская магистраль, Саяно-Шушенская ГЭС, Курская АЭС, КАМАЗ (Камский автомобильный завод), стройки Приморья и Крайнего Севера, Восточный порт Находка, в том числе нефтяные промыслы Тюмени, газопровод Уренгой—Помары—Ужгород и другие грандиозные всесоюзные стройки промышленного и гражданского назначения.
За время учебы Илья поработал в двух стройотрядах – после второго и третьего курсов. Первой была поездка на Крайний Север. Готовиться к ней начали заранее. Кроме личных вещей необходимо было везти с собой продукты на два месяца, матрацы, простыни, одеяла, кухонную утварь. Для ССО обычно выделялись дополнительные поезда, в которые размещали возможно большее число стройотрядовцев, поэтому некоторым бойцам приходилось ехать на верхней (третьей) полке. Из-за неудобства спальными местами менялись через сутки.
Дорога до конечного пункта Лабытнанги занимала более трех суток. Поезда отправлялись вне железнодорожного графика и на некоторых станциях долго простаивали в ожидании встречного состава. Однако никого это не смущало. Ехали весело, с песнями, любовались мелькающими за окнами незнакомыми доселе пейзажами. Интересно было услышать настоящий вологодский говор, посмотреть на Урал, воочию увидеть описанные многими писателями горы. Ближе к Лабытнангам все были поражены необычным зрелищем. Справа по ходу поезда как огромный шар, практически по земле, катилось солнце. Объяснение этому явлению из памяти улетучилось, но забыть его просто невозможно.
На вокзале в Лабытнангах в ожидании дальнейших указаний расположились в стороне от перрона недалеко от автодороги. Через некоторое время на ней появились два грузовика. В их кузовах были закреплены высокие металлические клетки, в которых находились заключенные. Что это именно они, стало ясно, когда увидели возле заднего борта двух бойцов с автоматами и сторожевыми собаками. Как выяснилось потом, в Лабытках (так местные жители между собой называли свой город), находилась тюрьма, в которой содержались осужденные на длительные сроки люди. И таким образом их возили на работы. Но дело не в этом. Проезжая мимо студентов, кто-то из заключенных произнес знаковую фразу.
– Привет, романтики!
Кто знает, возможно, эти люди, по принуждению оказавшиеся на Севере, в свое время и нарекли так молодежь, приехавшую осваивать дальний край.
В Лабытнангах провели более двух суток. Ночевали на разложенных на полу в местном доме культуры матрацах, питались всухомятку. Этот поселок, а ныне город с населением около 35 тысяч жителей, был своего рода перевалочной базой для продвижения дальше. В нашем случае – в Надым – поселок, который предстояло обустраивать, и где было всего два или три пятиэтажных общежития и множество балков (деревянные домики на полозьях).
Жили в палатках по двадцать человек, работали по 12 часов в сутки без выходных. Было нелегко учиться замешивать раствор, класть кладку, таскать кирпичи, работать с отбойным молотком, разгружать грузовики с бревнами. Иногда от усталости не могли сразу добраться до палаток, а добравшись – моментально засыпали. Бывало и без ужина. Периодически донимали комары и гнус. Но никто не унывал, ни один из бойцов не попытался уехать досрочно. Особенно «увлекательным» стало путешествие на барже по Обской губе – так добирались обратно до Лабытнанг по окончании всех работ.
Заканчивалась третья декада августа, уже пролетали «белые мухи» – первый снег. В кузовах грузовиков приехали на пристань. С удивлением увидели на барже гору веток, несколько бочек и дрова. Из веток начали делать настилы, на которых предполагалось время от времени спать. Дрова и бочки предназначались для разведения костров. В противном случае можно было серьезно заболеть. Тем не менее, сейчас Илья Иванович с удовольствием вспоминает проведенные дни в Лабытках. Особенно полярную ночь с северным сиянием, которую видел первый и последний раз в своей жизни.
Он также с гордостью говорит о том, что сейчас Надым – это один из красивейших городов Крайнего Севера с особенным архитектурным обликом и развитой инфраструктурой. За 40 лет Надым был успешно построен «с нуля», появились не только дома, но и школы, спортивные комплексы, дом культуры, поликлиника, церковь. И стоит в нем памятник «Надымским строителям», к которым где-то в глубине души Илья Иванович и сам себя причисляет.
Глава 3
Очередной учебный год пролетел быстро, и снова подходило время летних каникул. А в стране начиналось строительство магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Предназначался он для поставок природного газа с месторождений севера Западной Сибири в республики СССР, а также в страны Центральной и Восточной Европы. Илье и товарищам предстояло прорубить в тайге просеку длиной 10 километров и шириной 100 метров, подготовить к отправке древесину и уложить лежневку под автодорогу.
На этот раз Илья был зачислен в так называемые «квартирьеры». Они должны были обустроить лагерь для основной части стройотряда. Вместе с Ильей в этой группе поехали несколько одногруппников, в том числе и Кирилл Сычов, с которым ему доведется в будущем провести почти два года вдалеке от Родины и в очень непростых условиях.
С пересадкой в Москве долетели до Тюмени, затем через Сургут на вертолете добрались до станции Когалымская (ныне город Когалым с населением более 60 тысяч человек). В ожидании перелета непосредственно на рабочее место в тайгу пришлось провести ночь под открытым небом. Накомарники получить не успели, поэтому нормально выспаться смогли не все. Но те, кому это удалось, утром не могли широко открыть глаза – все лицо опухло от укусов. На скорую руку перекусив, получили две бензопилы «Дружба» и одну «Урал», топоры, гвозди и другие материалы. К группе подключили профессионального вальщика, который должен был очистить место для вертолетной площадки и остаться со студентами валить лес.
Высадились возле палаточного лагеря геологов. К месту, где предполагалось разместиться, пришлось идти километров пять. Потом еще несколько раз ходили туда—обратно, так как невозможно было забрать весь груз за один раз. К обустройству лагеря приступили сразу же. Времени было мало, поэтому работали по 14—15 часов в сутки. Труд был изнурительным, а столько комаров Илья в жизни еще никогда не видел. Накомарники помогали мало, приходилось использовать различные средства, вплоть до дегтя, от чего кожа на лицах грубела и шелушилась.
Стало немного легче, когда прорубили километра два просеки – появился разгоняющий комаров ветерок, но в конце рабочего дня начинал донимать гнус. Казалось, что к этой напасти никогда не привыкнуть. Но уже через месяц пребывания в тайге после работы можно было услышать звук гитары и песни. Звучали знакомые мелодии и слова, известные на всю страну. Многие сочинялись прямо на месте, а запомнившиеся строчки слышны были еще потом и в университете. Самой популярной в то время была песня известного поэта и барда, побывавшего в нескольких геологических экспедициях, Юрия Кукина «За туманом». В ней были такие строчки:
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.
Работа на лесоповале всегда считалась тяжелой и опасной. Это на первый взгляд все просто – была бы сила. Казалось, что стоит свалить высокую сосну? – Подпилил, толкнул – и порядок. На самом деле – это не просто умение, а почти ремесло. Не один студент получил тяжелые травмы, были и смертельные случаи. Об этом рассказывали, об этом все были предупреждены, и поэтому, когда возникла необходимость еще в одном вальщике, мало кто соглашался взяться за это дело без предшествующей подготовки.
Согласился Илья и проработал в этом качестве почти месяц. Поначалу он пожалел об этом, но отступать было не в его правилах. Да сразу не все и получалось. Тем не менее, лес он продолжал валить до последнего дерева и таким образом приобрел навыки еще одной профессии. Работа была проделана немалая. Ребят распирала гордость, когда они летели над трассой в Сургут, и сердца наполняло чувство глубокого удовлетворения проделанным и участием еще в одной грандиозной ударной стройке.
Глава 4
При всей похожести университета, в котором учился Илья, на подобные учебные заведения Советского Союза второй половины ХХ века, в этом была одна особенность, отличавшая его от других вузов. Здесь было очень много иностранцев. Легко можно было встретить студентов из Африки, Латинской Америки, Вьетнама, Кипра, Сирии, Палестины и других регионов и стран нашего большого мира. Больше всего их скапливалось на втором этаже, где находился так называемый «подфак» (подготовительный факультет).
В течение года иностранцы изучали русский язык, понятийный аппарат основных предметов, которые им предстояло осваивать в разных вузах нашей страны. Специфика заключалась еще и в том, что все зарубежные студенты проживали в одном общежитии вместе с советскими. В комнатах, как правило, поселяли четверых: двое иностранцев и двое наших. Большей частью это были студенты факультета иностранных языков. Все объяснялось стремлением облегчить иностранцам процесс адаптации к жизни в СССР, а инъязовцам создать благоприятную среду для совершенствования изучаемого иностранного языка.
Илья своей жизнью был доволен. Успешно перейдя на четвертый курс, способный студент не испытывал никаких трудностей в учебе. Английский язык давался ему легко, с французским тоже не было проблем, да и остальные предметы особого беспокойства не доставляли. Подзаработав в стройотряде, он хорошо отдохнул в Крыму, и сейчас его основной целью было «выбить» себе комнату в теплом крыле общежития и мечтать о том, что повезет с иностранцами. Это было важно. «Общага» находилась в довольно старом здании, ремонт не успели закончить, поэтому состояние комнат было разным. Приезжающие из-за рубежа студенты представляли собой весьма колоритную массу, и в силу отличий в воспитании и привычках не всегда с ними было просто в быту, возникали проблемы и с психологической совместимостью.
Кроме бытовых проблем, Илью волновал еще один вопрос, связанный уже с его учебой. Дело в том, что в университете существовала практика обмена студентами с зарубежными вузами, и каждый год несколько счастливчиков с их факультета выезжали в Англию на стажировку. Жили они в английских семьях, посещали лекции в местных университетах, знакомились с достопримечательностями, изучали «капиталистический» образ жизни.
В то время такая поездка считалась очень престижной, желающих побывать за границей было много. Но главное заключалось в возможности совершенствования языка путем общения с непосредственными его носителями и открывающимися перспективами в будущем. К таким стажерам руководство факультета относилось более доброжелательно, экзаменационные сессии они проходили легко, да и лучшие распределения доставались им. Илья был одним из кандидатов, шансов у него было не больше, чем у других, но и не меньше.
С такими вот мыслями, перекусив в столовой и прихватив пару бутылок марочного вина для комендантши общежития, Илья направил свои стопы в направлении студенческой обители. Комендантша Зина Николаевна, по-другому тетя Зина, была еще не старой, несколько полноватой и весьма покладистой женщиной. За долгие годы работы здесь она поняла все ее преимущества и успешно ими пользовалась. Несмотря на невысокую по меркам того времени зарплату, место было доходным.
Студенты-иностранцы представляли собой разношерстную толпу. Среди них можно было найти детей как высокопоставленных в своих странах родителей, так и представителей национально-освободительных движений, в основном, африканских, которые не отличались большим материальным достатком. Но как бы то ни было, у них всегда можно было приобрести по сходной цене различные импортные товары – от радиоаппаратуры до предметов обуви и одежды. Спрос на них в городе был большой, и при необходимости тетя Зина снабжала своих знакомых таким «дефицитом», естественно, не без пользы для себя.
Такой бизнес был рискованным, но не для нее. По всем вопросам, связанным с жильцами общежития, к ней обращались и преподаватели, и руководители землячеств, и, что наиболее важно, представители правоохранительных органов. Последние, конечно, знали или догадывались о деятельности тети Зины, но закрывали на это глаза. Комендантша особенно не злоупотребляла, но помощь оказывала действенную.
Илья с тетей Зиной сумел наладить почти дружеские отношения. Они основывались на взаимной симпатии и оказываемых ей услугах. Илья периодически подбрасывал комендантше «шмотки», большей частью те, которые ему были не нужны или с целью закрепления доброго ее отношения.
– Привет, студент, – улыбнулась тетя Зина. – Пора за учебу браться? Как отдохнул?
– Все, как всегда. Стройотряд, а потом месяц в Крыму. Вот и для тебя, теть Зин, «кусочек Крыма», – в тон ей ответил Илья, вручая пакет с бутылками.
– Илюш, ты в своем стиле. Спасибо, – улыбка у тети Зины стала еще шире. – Приехал поселяться?
– Ну, да. Осталось что-нибудь приличное?
– Дорогой мой, для тебя всегда найду. На третьем этаже есть комната. Правда, там еще ремонт, но обещали сегодня закончить. Одну ночь где-нибудь поселю, а завтра переедешь в свои апартаменты.
– Теть Зин, спасибо. А приезжих (имелись в виду иностранцы) уже распределили по комнатам?
– Как всегда списки составили заранее. Но не все еще приехали. Основной заезд завтра.
– И с кем же мне повезло?
– Какие-то африканцы. Да тебе ведь не привыкать.
– Без разницы. Лишь бы побогаче.
– Понимаю, – произнесла тетя Зина.
– А из наших кто? – спросил Илья.
– Пока свободно. Может, поселить кого-то из твоих?
– Хорошо, я поговорю с ребятами.
Илья немного лукавил. Еще раньше он договорился со своим одногруппником Кириллом «пробить» комнату и поселиться вместе. Они и раньше дружили, но до последнего времени Кирилл снимал квартиру в городе. В силу сложившихся обстоятельств родители уже не могли содержать его как раньше, поэтому возникла необходимость в общежитии.
Соседями по комнате оказались Фред из Судана и Питер. О втором следует рассказать подробнее, так как он для нас представляет интерес с точки зрения понимания условий, в которых довелось оказаться нашему главному герою.
Как выяснилось потом в процессе общения, Питер родился в небольшой деревушке на юге Африки. Его страна, назовем ее Сантиния, была давней колонией. Парень с детства познал все возможные лишения и невзгоды своего существования. Как многие его сверстники, он помогал родителям, основным занятием которых было скотоводство. В сложных условиях окончил начальную школу, и это позволило ему позже уехать из деревни и устроиться рабочим на рыбоконсервную фабрику. Здесь-то его и захлестнула другая жизнь – полнокровная, насыщенная, полная опасностей и жестокости.
Продолжая учиться, молодой сантиниец вступил в полулегальную организацию, объединявшую, главным образом, прогрессивную молодежь и рабочих рыбной промышленности. Собственно говоря, это была первая попытка найти политическое решение проблемы негритянского населения в стране, управляемой белым меньшинством. Первые выступления были легко подавлены, организация практически развалилась. Ее руководители помогли Питеру перебраться в Белград, чтобы продолжить учебу.
После окончания философского факультета Питер вернулся в Сантинию, где к тому времени протестные настроения усилились и обрели организационные формы. Такое положение не устраивало власти, и они начали принимать радикальные меры, вплоть до арестов и судов. Оставаться в стране было уже невозможно. Таким образом, Питер, будучи уже одним из лидеров, оказался в Танзании. Эта страна оказалась в центре национально-освободительного движения в Африке, а в столице располагалась штаб-квартира созданного Организацией африканского единства Комитета освобождения.