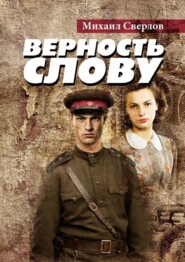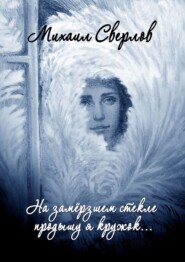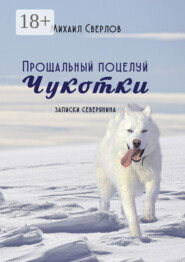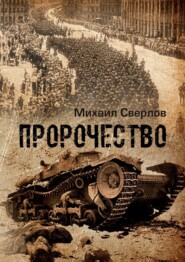По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бегущая по тундре. Документально-художественная повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как прекрасно ощущать над собой кров, непроницаемый для холода и ветра! Как приятно наконец-то обрести спасение от бьющего в лицо колючего снега и от необходимости тратить все свои силы на борьбу с порывами ветра! Как здорово находиться в тепле, хотя температура здесь не превышает 10 градусов по Цельсию. Но как же хорошо сидеть здесь при спокойном и уютном свете эека – горящего в подвешенной каменной чашке тюленьего жира.
А через несколько минут гостеприимная хозяйка передаёт кэмэы (длинное деревянное блюдо) с мелконарубленными кусочками варёной оленины. Нет ничего прекраснее, чем после долгих часов борьбы с пургой сидеть в пологе яранги и наслаждаться горячим и хорошо проваренным оленьим мясом!
После мяса – чаепитие, которое по традиции совершается истово и долго. Тёплая жидкость проникает внутрь и приятно растекается по всему телу. Гости то и дело подставляют хозяйке свои чашки до тех пор, пока каждый из них не скажет традиционное «тыпаак» (я сыт, я закончил). И только после этого хозяйка приступает к мытью посуды.
После чаепития, закурили трубки.
– Что Эттэринтынэ? Как ребёнок? – спросил Рентыргин.
Эттэринтыне отдёрнула занавеску, отделяющую часть полога и показала дочь.
– Как ты её назвал? – спросил Иван у Тумнеттувге.
– Пока никак. Я зову её Ая.
– А как зовёт её Эттэринтынэ?
– Я зову её Нутэтэгрынэ – бегущая по тундре, – ответила счастливая мать.
– Почему ты так её назвала? – спросил брат.
– Она всё время перебирает ножками, как будто бежит и бежит куда-то, да и подвешенный мешочек с иголками показал.
Иногда, при выборе имени ребёнку, подвешивался какой-нибудь личный предмет из набора матери, и мама с бабушкой начинали называть имена. Если при названии какого-нибудь имени предмет качнётся, значит, тем именем и будет назван ребёнок.
Рентыргин приподнялся со шкуры и как бы подполз к сестре, кормившей дочь грудью, и долго-долго смотрел на маленькую девочку. Потом молча отсел на шкуру и затянулся трубкой. Все молчали.
– Однако, – задумчиво сказал он после затянувшейся паузы, – далеко побежит. Добежит до большого города – Москва называется. Там живёт главный человек страны. Рядом с ним сможет быть. Много хорошего сделать может для нас чукчей и эскимосов. Береги её, – сказал он Тумнеттувге. – Только ей учиться надо. Пусть её учат русские. И вы с Эттэринтынэ учите её. Она должна знать и уметь делать всё, что знает и умеет чукчанка.
Вечером в расположенной недалеко от стойбища культбазе[8 - Культурные базы представляли собой целый комплекс культурно-бытовых учреждений, где чукчи учились жить новой жизнью.] собрались все мужчины стойбища и несколько свободных от дел женщин. Разговор шёл о создании колхоза и Сельского Совета, куда вошли бы тундровые и лагерные Советы.
– Мы сегодня должны обсудить и решить вопрос создания колхоза, – начал Рентыргин. – Это очень важная задача…
– А зачем нам колхочь? – перебил его Омрувье. – Нам и в артели хорошо. Зверя бьём, мясо есть, подкормка для песцов и лисиц есть. Охота зимой будет, много пушнины заготовим. Зачем нам нужны оленьи люди? Мы и так на ярмарках меняем мясо и шкуры нашего морзверя на мясо и шкуры их оленей
– А скажи мне, – обратился к нему Рентыргин, – когда вам предлагали создать артель, ты был согласен с этим?
Омрувье сосал незажжённую трубку, и смотрел на Рентыргина, не отвечая на его вопрос.
– Хорошо, я сам отвечу. Нет, ты был против этого. Хотя всем было понятно, что вместе охотникам будет легче добывать моржа, лахтака[9 - Лахтак (морской заяц) – один из самых больших тюленей и самый крупный представитель российской фауны. У него грузное и неповоротливое тело, длиной до двух с половиной метров, и весом до 350 кг.], нерпу. Разве не увеличилась добыча морзверя в разы? Вот так и колхоз. В нем всем вместе легче решать вопросы, связанные с нашей жизнью. Не всегда море одаривает вас богатой добычей. Раньше прибрежные люди умирали от голода, когда моржи и нерпы уходили далеко-далеко от берега. Хорошо, что появились русские фактории, где всегда можно купить еду. А с созданием колхоза и совместной работой с оленьими людьми вы вообще забудете о том, что жили когда-то без мяса.
– Но, согласны ли оленьи люди пойти в колхочь? – задал вопрос Тымнеттагин.
– Мы и с ними ведём об этом разговор. Но там сильно воздействие шаманов и богатых людей… Хотя уже создано много оленеводческих бригад.
Долго говорили морзверобои и охотники. Но ничего этого маленькая Нутэтэгрынэ не слышала и не знала. Не знала она и того, что через год её отца выберут председателем созданного сельского Совета села Рыркайпий[10 - Рыркайпий (Рыркампан, от рыркы «морж» + мпан от ныпэк «вылезать») – лежбище моржей. Село, впервые упомянутое ещё в 1778 году исследователем Севера Д. Куком, который случайно наткнулся на поселение местных людей и на своих картах обозначил его как мыс Северный или Кап Норд. В 1791 году это место проезжал Иосиф Биллингс, он-то и нанёс на карту этот населенный пункт как Рыркайпий, что в переводе с чукотского языка означает «лежбище моржей».], а ещё через год её дядя Иван Иванович Рентыргин станет председателем первого в Чаунском районе колхоза. Спит маленькая девочка, набирается сил на всю свою долгую-долгую жизнь.
* * *
Девочка росла быстро и была неугомонной. Она всегда куда-то спешила, залезала, падала, попадала в разные истории, но крик или плач от неё слышали редко. За ней нужен был глаз да глаз, особенно, когда она начала ходить и гулять за пределами яранги или земляного дома.
Тут уж не обходилось без помощи братьев. Поэтому она с малых лет играла в мальчишеские игры, повторяя, а то и превосходя их в шалостях. Часто вместе с ними играли русские дети, жившие на метеостанции. Они-то и стали называть её вместо отцовского Ая – Аней.
Особенно Аня любила кататься на льдинах, что всем детям категорически запрещалось. Здесь у неё нашлись партнёры в лице подружек Етувги и Келены. Вместе с ними «капитанили» и русские мальчишки, иногда вытаскивая друг друга и девчонок, падающих в воду с льдин. Хорошо, что берег в этом месте был пологий и упавший в море ребёнок мог и самостоятельно выбраться на берег. Опасность была в том, что льдины могли просто задавить упавшего ребёнка.
Летом компания девчонок и мальчишек бегала по гальке от волн к берегу, а когда волна отступала, то они всей гурьбой неслись следом за ней, зачастую не успевая убежать от следующей нахлынувшей волны.
Конечно, все они приходили домой мокрыми с головы до ног, но счастье было полным, несмотря на то, что родители их громко ругали. Это было наказание.
Но страшнее было услышать от отца: «Чекальван вальэгыт» – ты совершенно ни на что не похожа. Это было самое страшное ругательство чукчей. Иногда он добавлял какие-то русские и английские слова. Аня их не понимала, но догадывалась, что отец сильно сердится на неё.
Аня не очень охотно осваивала знания и навыки по приготовлению запасов на зиму, выделке шкур, шитья, хотя у них была бабушкина напольная швейная машинка фирмы «Зингер». Тем не менее, вместе со всеми женщинами и детьми собирала ягоду, грибы, растущую в тундре зелень, дикий лук. Она очень любила кушать струганину[11 - Струганина – нарезанная стружкой замороженная сырая рыба: нельма, муксун, чир, северный омуль, или мясо оленя.], кыргит[12 - Кыргит – у русских, живущих на Чукотке, называется копальхен. Куски кожи моржа вместе со слоем жира и мяса. Кусок сворачивают в рулет, добавляются туда куски печени и почек нерпы, моржа, квашеная тундровая трава. «Рулет» может весить 30—40 кг. Его кладут в мясную земляную яму и прикрывают сверху. Хранят в земле несколько месяцев. Затем достают и несмотря на очень резкий запах, едят сами и кормят им собак.], мантак[13 - Мантак – кусок кожи кита с салом.], слушать древние сказки и предания, которые мастерски рассказывал их сосед по рядом стоящей яранге Гивэу (обретающий известность). Люди говорили, что он белый шаман, но Гивэу рассказывал детям, что настоящий белый шаман – Нутэтэин, и живёт он в далёком стойбище в Уэлене. «Он пока ещё совсем молодой, но когда начинает танцевать, то в его танце видны снег и ветер, волны на море и полёт чайки над волнами. В его яраре (бубне) воет ветер, кричат птицы, отзывается эхо в прибрежных скалах. Он то превращается в танцующего журавля, то в бегущую по тундре гагару в период линьки. Неожиданно ты видишь, как зацветает тундра, резвятся песцы и лисицы. Глядя на него, ты слышишь голос ЖИЗНИ!»
– И ты, – однажды неожиданно сказал Гивэу Анне, – встретишься с ним далеко отсюда, когда будешь совсем взрослой и станешь большим начальником.
Ещё Анне запомнился сказ старого человека о Вороне, через которого Творец создал весь окружающий человека мир. Вот как, по его сказу, это происходило: «Жил-был Ворон. Он летел в определённом пространстве, точное описание которого до нас не дошло. Его полёт не поддавался измерению времени. На лету ворон испражнялся и мочился. Когда он из себя извергал большие и твёрдые куски, из них образовывались большие пространства суши – горы и континенты, из мелких – острова, а из жидких – топкая тундра. Созидательный полёт Ворона был непрерывным, и след его мочи вытянулся в тонкую нить, образуя реки. А когда мочи осталось совсем немного, и она уже не лилась, а только капала, из этих капель образовались многочисленные тундровые озера».
В этом мифе о сотворении почему-то ничего не говорилось о морях и океанах. Вероятно, они существовали с самого начала, и поэтому Ворон не имел никакого отношения к их появлению. Однако созидательная миссия Ворона на этом не была завершена, и Гивэу продолжал:
«Теперь необходимо было покрыть землю растительностью и населить её живыми существами. Но самое главное, нужно было её осветить, ведь сотворенная земля пока ещё не имела ни солнечного освещения, ни звезд на небе.
И тогда Ворон созвал всех своих родственников-птиц. Первым он выбрал большого Орла – самого сильного и выносливого из них – и велел ему лететь на край неба и земли, чтобы там пробить отверстие для солнечных лучей. По его приказу Орел взмахнул огромными крыльями и улетел к горизонту. Прошло много времени, и он вернулся усталым и ослабевшим. Его некогда большой и красивый клюв был ободран и стёрт почти до основания. Он с большим сожалением поведал Ворону о том, что не смог исполнить его наказ, потому что небесная твердь оказалась слишком твердой для его клюва. Тогда Ворон послал белую Чайку-поморника, но и она вернулась ни с чем. После этого на край земли летали Совы, Утки, Гуси, Гагары, но света на земле по-прежнему не было. Когда надежды почти не осталось, к Ворону обратилась маленькая Пуночка, которая тоже хотела попробовать добыть свет для земли. Ворон с недоверием взглянул на крохотную пташку, но выбора не было, да и терять уже было нечего. Он одобрительно кивнул, и Пуночка радостно взмахнула крылышками и скрылась в кромешной тьме.
Время шло, а отважная Пуночка все долбила и долбила твердое небесное покрытие. Она уже до основания сточила свой крохотный клювик, и на белоснежные перья грудки маленькой птички из ранки брызнули капли крови.
Прошло очень много времени, а Ворон не отрываясь продолжал смотреть в ту сторону, куда улетела Пуночка. И вдруг он увидел какой-то красный отблеск. Сначала это была маленькая точка, но постепенно она начала расти в ширину и вышину, и из точки вдруг хлынули лучи солнечного света, такие яркие, что все, увидевшие его, зажмурились. Это было Солнце! Отважная Пуночка вернулась изнурённой и почти без клюва, а вся грудка у неё была красной от собственной крови. Это был цвет утренней зари, которую с нетерпением ожидало всё живое на земле. И по сей день на груди у каждой пуночки есть красные перышки, как свидетельство её великого подвига». Так рассказывал старый сказитель Гивэу.
В семь лет отец начал учить её стрелять из винчестера[14 - Винчестер – американский карабин.] и малокалиберной винтовки, а в девять – впервые взял с собой на вельбот, где она вместе с мужчинами охотилась на нерпу. Такие тренировки научили Анну метко стрелять и ей очень завидовали русские мальчишки.
Ане нравились рассказы бывалых и удачливых охотников. Вечером они приходили в ярангу Тумнеттувге, пили чай, курили трубки и рассказывали разные случаи из их такой богатой на приключения охотничьей жизни.
Однажды Аня услышала рассказ и своего отца об охоте на умку – белого медведя, и о том, как охотится умка. Говорил он для молодых охотников, собравшихся в яранге:
«Залезет хитроумный умка на торос, по-человечески на задние лапы встанет, и только бинокля ему не хватает, чтобы вокруг оглядеться.
Внимательно смотрит и носом поводит: запахи он слышит, быть может, лучше всех зверей. Тут же прикинет, с какой стороны дует ветер, чтобы подкрасться к жертве непременно с подветренной стороны. И, вдруг, что-то заметив, полулежа, заскользит с тороса на брюхе, притормаживая передними лапами. Теперь он знает, где его жертва, и каков путь до неё.
Как ползет умка по снегу? Распластается на снегу, сольётся с ним насколько возможно и поползет по-пластунски. Если встретится сугробик, осколок льда – затаится, переждёт. Зная, что лишь глаза да нос могут выдать его своей чернотой, закроет морду лапой, шевельнет от нетерпения коротким хвостом и опять начинает ползти, как бы загребая пространство передними лапами и волоча задние. Устанет – оттолкнётся задними лапами, скользя передними…
А тюлень, греясь на солнце, то поднимет голову, то опустит, засыпая меньше чем на минуту. И умка знает, сколько времени будет тюлень оглядывать пространство, прекрасно знает и потому замрёт на тот миг, прикрыв лапой нос. Опустил тюлень голову, опять умка пополз.
И вот наступает роковой для тюленя миг, когда он, к своему удивлению, вдруг видит, что умка сидит на его отдушине. Сидит спокойно, довольный своей хитростью и ловкостью. Передние лапы широко разводит, как бы приглашая жертву в свои смертельные объятия. И некуда деваться тюленю. Повинуясь инстинкту, он ползёт к отдушине. Медведь взмахивает лапой, чаще всего левой, бьет тюленя по голове, и охота закончена».
Тюлени не могут подолгу находиться под водой без воздуха, поэтому они «продувают» отверстия во льду. Нерпы собираются вместе и совместным тёплым дыханием протапливают во льду лунку, через которую они могу дышать и выбираться на поверхность. А чтобы лунка не замерзала, сверху её щедро припорашивают снегом. Такой снежный холмик и защищает отверстие от замерзания, и маскирует его.
Загарпунить на несколько секунд всплывающую нерпу – величайшее мастерство, требующее от охотника особой ловкости и умения приблизиться к лунке незаметно для животного.
«Кроме меня, – рассказывал отец, – в тот день на нерпу в лунке охотился и белый медведь, которому в ловкости может позавидовать любой охотник.