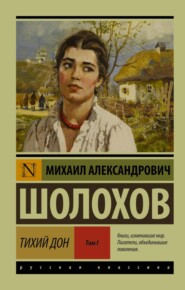По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тихий Дон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кэк?
– Есаул Попов, господин старый казак!
– Я не прэ это спрашиваю. Ты мне скэжи, как его кличут, прэмеж нэс, кэзэков?
Иванков опасливо подмигнул Митьке, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.
– Ну? Этвечай!
– Есаул Попов звать их, господин старый казак.
– Четырнадцать пряжек. Гэвэри, гад!
– Не знаю, господин старый казак!
– А вот приедем на лунки, – заговорил Крючков подлинным голосом, – я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!
– Не знаю.
– Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?
Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.
– Ну? – Крючков зло щурился.
Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:
– Коршунов, ты гляди!.. Приедем – полсотни пряжек вварю!
Митька повел плечами, решился.
– Черногуз!
– Ну, то-то и оно.
– Крю-ю-уч-ков! – окликнули сзади.
Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.
– Ты чтэ щ это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? – заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. – Ты чему ж это учишь мэлодого кэзэка, а?
Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.
– Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?.. – Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. – Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?
– Так точно, ваше благородие, понимаю!
Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.
– Сэтня, рысь вэзьми!..
Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой.
– Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?
Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:
– Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть, учуял, про что речь идет.
– Ты б хоть мигнул, дура.
– А мне-то нужно?
– Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!
Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.
Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.
– Иди с нами косить, пан!
– Жир иди растряси трошки!
– Бери косу, а то паралик захлестнет!.. – кричали из белорубашных шеренг казаков.
Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.
В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.
Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.
– Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.
– Пырею почти нету.
– Наши в Донщине теперь уж откосились.
– Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.
– Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.
– О-го-го-го! Он за бутылку в алтаре…
– Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче – тем скупее?
– Это у царя спроси.
– А дочерю помещикову кто видал?
– Есаул Попов, господин старый казак!
– Я не прэ это спрашиваю. Ты мне скэжи, как его кличут, прэмеж нэс, кэзэков?
Иванков опасливо подмигнул Митьке, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.
– Ну? Этвечай!
– Есаул Попов звать их, господин старый казак.
– Четырнадцать пряжек. Гэвэри, гад!
– Не знаю, господин старый казак!
– А вот приедем на лунки, – заговорил Крючков подлинным голосом, – я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!
– Не знаю.
– Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?
Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.
– Ну? – Крючков зло щурился.
Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:
– Коршунов, ты гляди!.. Приедем – полсотни пряжек вварю!
Митька повел плечами, решился.
– Черногуз!
– Ну, то-то и оно.
– Крю-ю-уч-ков! – окликнули сзади.
Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.
– Ты чтэ щ это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? – заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. – Ты чему ж это учишь мэлодого кэзэка, а?
Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.
– Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?.. – Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. – Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?
– Так точно, ваше благородие, понимаю!
Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.
– Сэтня, рысь вэзьми!..
Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой.
– Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?
Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:
– Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть, учуял, про что речь идет.
– Ты б хоть мигнул, дура.
– А мне-то нужно?
– Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!
Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.
Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.
– Иди с нами косить, пан!
– Жир иди растряси трошки!
– Бери косу, а то паралик захлестнет!.. – кричали из белорубашных шеренг казаков.
Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.
В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.
Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.
– Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.
– Пырею почти нету.
– Наши в Донщине теперь уж откосились.
– Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.
– Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.
– О-го-го-го! Он за бутылку в алтаре…
– Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче – тем скупее?
– Это у царя спроси.
– А дочерю помещикову кто видал?