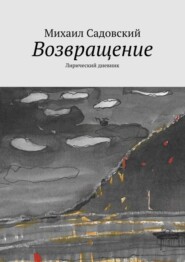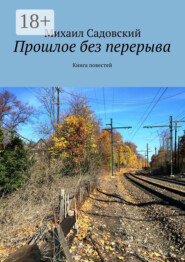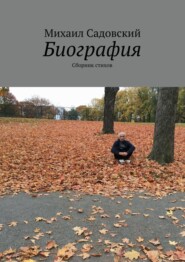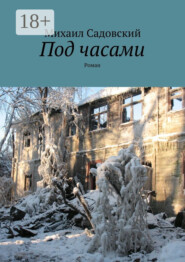По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ощущение времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как раз только-только заговорили о кампании борьбы с «беспачпортными» космополитами, и то, что человека забрали, ни для кого не было чем-то невероятным… Но люди же всегда всё знают, и Ханэ-ретах (её прозвали Хана-редька, потому что она на всё, что ни происходило, говорила: «Вос рейдт ойх?!» («О чём вы говорите?!»), а знала она много, и раньше всех, но получалось сквозь щербатые зубы: ретах! – редька!) … так вот, Хана совершенно серьёзно сказала, что он пошёл по другой статье, за махинации! А с чего же он так жил, как вы думаете? Брал у государства сырьё, делал ботики (и прекрасные, надо сказать, дай ему Б-г здоровья), а продавал их (по очень хорошей цене) как свои в палатках на станциях вдоль всей железной дороги и, видимо, с кем-то не поделился, не то что с государством…
Может быть, и так, кто знает?! Но местные решили по-другому, что замели его, как еврея, в очередную страшную мясорубку… «Мало вас Гитлер поубывав! – орал вечно пьяный бывший танкист без ног на роликах у станции. – Сталин вас всех теперь уберёт! Это из-за вас я без ног остался, пархатые!».
Но неожиданно, меньше чем через год, Герш-Пурец появился в посёлке и гордо прошёл до дома, и оттуда опять понеслись, но теперь радостные, вопли! И все вокруг запутались вовсе: за что сидел, каким образом попал под амнистию, были даже такие, что высказали предположение, что он вовсе не еврей, а просто похож!!!
Милка вызвала меня из дома, позвонив велосипедным двуголосым колокольчиком… Она уже давно постигла хитрости езды и гоняла на своей «Мифе» в любую непогоду.
– Додик, сколько тебе лет? – спросила она в лоб, и я даже забыл, сколько мне на самом деле.
– А что? – поинтересовался я вопросом на вопрос прежде, чем ответить, как делают все евреи. – Одиннадцать, – приврал я… хотя до этого было много больше полугода…
– Э!.. – сокрушённо вздохнула Милка. – Ты мой лучший друг, конечно, и единственный… но ты мне не годишься.
– Почему? – обиделся я. – Скажи, почему…
Милка оценивающе уставилась на меня…
– Потому что маленький!
– Ну, и что… разве дружат по росту!
– При чём тут рост? Ну, при чём? Ты что, не видел Гетю? Да у неё муж, этот задрипанный Шимек-шмаровоз, чуть выше пояса ей! И ничего – живут! И Венька с Лизкой… У них хоть и геротанные дети, а нормального роста…
– Ты про что, Милка? – не понял я…
– Ты маленький… тебя очень долго ждать, а мне сейчас надо…
– Что сейчас? – у меня захолонуло сердце…
– Сейчас! Чтобы кто-нибудь меня украл из дома и женился на мне…
Я тут же представил, как всё это происходит, как Милку, завёрнутую в перину, вытаскивают через окно, бросают в кузов полуторки и гонят её со страшной скоростью к переезду, а там закрыт шлагбаум, и уже свистит электричка на подходе, но машина не останавливается и, как в кино, ломает полосатую палку, торчащую поперёк дороги, и проносится, буквально перед носом ошалевшего от испуга машиниста с вытаращенными глазами, на другую сторону, а там шоссе, и поминай как звали!.. Вольная жизнь! Неосвоенные просторы свободной Родины… Мне стало так обидно, что я еле выдавил:
– А я?..
– Ну, что ты, Додик? – возмутилась Милка. – Тебя ждать и ждать! Я умру дома, ты что, не понимаешь?
– Понимаю, – откликнулся я, чтобы выразить сочувствие, хотя на самом деле понимал, что положение моё совершенно безнадёжно…
– Я уже всё рассчитала, – стала объяснять Милка. – Я потом, когда ты вырастешь, с тем мужем разведусь, и мы с тобой поженимся! Понял? – я молчал. – Ты что, возражаешь?
– Да, – тут я ответил немедленно.
– А как же мне быть? – спросила Милка совершенно по-взрослому.
– Можно убежать… – предположил я. – Вдвоём. Уехать к тётке… ты же говорила, что у тебя есть тётка в Чите или Биробиджане…
– Да, – сказала Милка. – Тётка есть. Только меня вернут с милицией обратно… а мне надо навсегда. Понимаешь? Я так решила… А ты мне всё из книжек предлагаешь… потому что ещё маленький…».
Роман Веры и Додика начался в тот же вечер – безо всяких предисловий и размышлений. Вера влюбилась. С ней это происходило уже не первый раз, а Додик даже не знал, что так бывает, хотя был на треть старше её… Они бродили, если некуда было деться, по улицам, целуясь до исступления. Иногда им везло укрыться днём в общежитии часа на два, обманув с помощью друзей бдительность комендантши… Потом они брели в изнеможении в Большой зал, втискивались в угол во втором амфитеатре и, сладко прижавшись боками друг к другу, блаженно плыли неведомо куда, отдаваясь стихии мелодий…
Давид работал каждый день. Вставал рано-рано, когда только отдельные звуки нарушают тишину, и оттого она становится ещё плотнее. Когда накапливалось достаточное количество страниц, непременно читал их Вере, потому что теперь получалось так, что, пока не поделится с ней, – он не мог двинуться дальше… ни на строчку…
Вся эта история с приёмом совсем отодвинулась далеко от него, и он часто ненароком вспоминал слова Зверского, сказанные в тот, самый горячий и болезненный для него, день, и усмехался их грубой правде…
«А если бы не пролетел на приёме – и не встретились бы…» – всё время вертелось у него в голове.
Они оба догадывались, что её родители неодобрительно относятся к их связи, но старались не выяснять, почему, и не говорить об этом. Часто люди клянутся друг другу, чтобы убедить самих себя, что это именно так, что любовь их вечна, что навсегда… а вечными оказывались только звёзды, которые слышали это… Они же действительно любили друг друга безоглядно и безотчётно, как случалось не однажды до них с тех самых пор, как Б-г сотворил это вечное чувство. И вечно оно потому, что в него, как в бесконечную косу, вплетаются всё новые и новые нити любви… Расходятся, стареют, умирают люди, но истинное, высокое, безоглядное чувство, которое они испытали, остаётся, и для того, чтобы так случилось, не надо ничего делать специально, потому что это естественно существует в мире, как восход и закат, как великая пора цветения и увядания, как сами прекрасные бушующие цветы…
Однажды Вера передала Додику просьбу отца зайти, поговорить. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись, но и на этот раз не стали обсуждать приглашение и делать какие-либо предположения… Вера заканчивала только третий курс, и если бы они заикнулись о женитьбе!..
Лысый снова пригласил Додика на кухню, что, впрочем, было знаком высшего доверия и расположения – так поступали только с близкими и друзьями. Варвара Петровна, как всегда, поджав губы, поздоровалась и ушла к себе, а дочери отец сказал:
– У нас, Вера, разговор мужской! Не обижайся! – и она тоже ушла… Лысый дипломатничать не умел и заявил об этом прямо.
– Знаешь, Давид, я тебе завидую!
Такое вступление, конечно, понравится не могло… «Сейчас начнёт, что он воевал, что их поколение спасло нас и весь мир, и что теперь перед нами поэтому все дороги… а мы вот вместо того, чтобы… а Вере надо играть и играть, потому что педагог говорит, что она такая способная, и он её на международную арену вывести хочет…». Он так незаметно далеко и стремительно продвинулся в мыслях по этой дороге, что даже не сразу отреагировал на слова хозяина…
– Да ты где, Давид? Ты меня не слышишь!
– Простите! Вы же знаете сами… мы же все улетаем иногда в другое измерение… как накатит… – а сам подумал: «Ну, только спокойно, спокойно… он же отец! Спокойно…».
– Ты мне, знаешь, очень нужен… – Давид насторожился. – Даже не предполагаешь…
– Ну… наверное… конечно…
– Нет, погоди… только ты меня пойми правильно и… ну, не обижайся, что ли… – Давид молчал. – Я тебе хочу сделать предложение!
«Ого, – усмехнулся про себя Додик, – уже отцы делают вместо женихов своим дочерям за них предложения!».
– У меня сейчас много заказов на книги. Юбилей скоро. Ну, юбилей Победы, значит, и все хотят о своих подвигах рассказать, понимаешь? – Давид ничего уже не понимал и даже не представлял, о чём идёт речь и какое это имеет отношение к ним с Верой. – Ну, короче говоря, все, конечно, проявляли героизм на войне, как говорится, – это массовое явление было… потому и победили…
Додик внутренне усмехнулся: «Угадал всё же! Понесло. Можно бы и не так пафосно формулировать», но не подал вида…
– …мне одному не справиться… понимаешь… не успеваю… Ну, а мы же не чужие всё же люди, как я понимаю, друг другу-то, вот я и решил сделать тебе такое предложение, чтобы, как говорится, объединить усилия…
Додик тупо смотрел на Лысого. Он действительно всё ещё никак не мог переключиться и вникнуть в его слова: «предложение… помочь… не чужие…». Ну, конечно, не чужие… но что значит «помочь»?!
– Я, понимаешь ли, данные все, конечно, обеспечу, но… тут уж дивизии, даже эскадрильи решили, чтоб у каждого подразделения, понимаешь, была книга о них… понимаешь? Ферштеен зи?! Во, видал! – удивился сам Лысый. – Никогда с войны не вспоминал…
– Так вы что… – наконец вернулся в реальность Додик. – Меня в компаньоны зовёте?
– Именно, – обрадовался Лысый. – Именно! И подзаработаешь немножко – это ж не помешает?!
– Конечно, – согласился Додик, – конечно!.. Только как это всё, значит, выглядеть будет?.. Я что-то не понимаю… Ну, скажем, если бы это просто какой генерал или маршал воспоминания свои решил увековечить, а я литературную запись осуществил… но… ну, здесь-то как?.. Как это: литературная запись писателя у писателя?.. Или…
– А тебе надо обязательно, чтоб твоё имя было на обложке?
Другие электронные книги автора Михаил Садовский
Другие аудиокниги автора Михаил Садовский
Бяша




 4.5
4.5