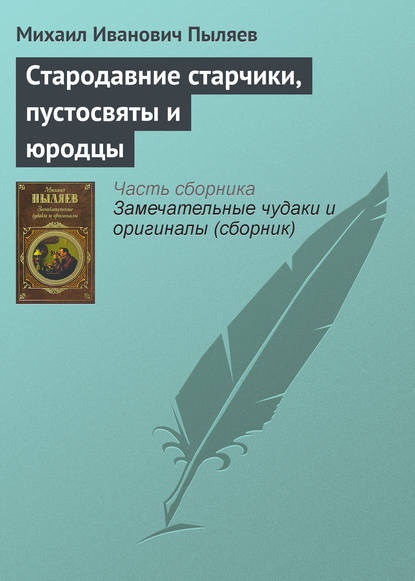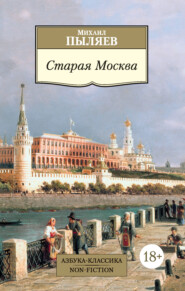По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стародавние старчики, пустосвяты и юродцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стародавние старчики, пустосвяты и юродцы
Михаил Иванович Пыляев
Старое житье
«В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что «лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат, св. Анастасия и св. Пятница велят им» и проч. …»
М. И. Пыляев
Стародавние старчики, пустосвяты и юродцы
В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что «лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат, св. Анастасия и св. Пятница велят им» и проч.
В следующем затем столетии злоупотребления в этом отношении достигли крайних пределов, так что патриарх принужден был запретить пускать в церкви юродивых и нищих. «Понеже, – сказано было в окружной грамоте 1646 года, – от их крику и писку православным христианам божественного пения не слыхать; да тее в церкви Божия приходят аки разбойники с палки, а под теми палки у них бывает копейца железные, и бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная».[1 - См.: Макарий (Бултаков М.П.). История Русской Церкви. Т. 8. Кн. 3. СПб., 1877. С. 238.] В начале XVIII века в обеих столицах развелось особенно много юродивых и других странных и полупомешанных людей, которые являлись в церкви в «кощунных одеждах», кричали, пели и делали разные бесчинства во время богослужения – единственно из корыстного желания обратить на себя внимание богомольцев.
Такие беспорядки в церквах вызвали со стороны Святейшего Синода следующее постановление от 14 июля 1732 года: «Юродивых по церквам в столицах бродить не допущать, в кощунных же одеяниях и в церквах не впущать, а в приличном одеянии они могут входить, но стояли бы с должною тихостию не между народом, но в удобном уединенном месте. А буде они станут чинить каковые своеволия, и их к тому не попускать и показывать за то им, яко юродивым, от священноцерковнослужителей угрозительные способы. А ежели они от того страху никакого иметь не будут, то их во время всякого церковного пения из тех церквей высылать вон. Каковые же ныне юродивые при здешних церквах суть, тех сыскать в духовное правление и какими возможно способы испытывать, наипаче о том, не притворствуют ли они, и потом следовать как надлежит: чей он крестьянин, как и отколь сюда пришел и где пристанище имеет, и отколь пищу и одежду получает, и собираемые от подателей деньги куда они отдают».
Из этого указа видно, что Синод преследовал не юродство, а только соблазнительные недостатки юродивых; тем более, что в то время некоторые из юродивых жили даже при дворе, и им поручались многие благочестивые дела, как, например, раздача милостыни и проч. Императрица Анна, пугливая и подозрительная, с особенным вниманием следила за появляющимися в разных вотчинах, как она выражалась, «якобы святыми», т. е. теми типическими проходимцами через всю историю России, так называемыми «юродивыми», нередко вещавшими в иносказательной форме о разных тягостях и печалях народных, о злоупотреблениях власти и т. д. При дворе матери императрицы Анны Иоанновны, набожной царицы Прасковьи Федоровны, находилось множество разного рода калек и юродов. Историк Татищев, посещавший царицу, рассказывает, что у нее был целый госпиталь уродов, юродов, ханжей и шалунов. Из числа их особенным почетом пользовался некто Тимофей Архипыч; у него целовали руки, просили благословения, ждали пророческих сказаний, и каждому его простому слову придавали загадочное и таинственное значение.
I
Тимофей Архипыч
К. Тромонин[2 - См.: Тромонин К.Я. Достопамятности Москвы. М., 1842. № 6. С.73.] говорит о нем следующее: «1731 года, мая в 29-й день, при державе благочестивейшей великой государыни нашей императрицы Анны Иоанновны всея России, преставился раб Божий Тимофей Архипов сын, который, оставя иконописное художество, юродствовал миру, а не себе; а жил при дворе матери ее императорского величества государыни императрицы благочестивейшей государыни царицы и великой княгини Параскевии Федоровны двадцать осемь лет и погребен в 30-й день мая в Чудовом монастыре, в стене Церкви Михаила Архангела, наружу с южной стороны».
К этому Тромонин добавляет, что «над гробницею его (т. е. Архипыча) находится картина, где Тимофей изображен лежащим в гробе; возле него стоит, как изустно по преданию, императрица Анна Иоанновна».
Болтин[3 - См.: Болтин И.Н. Примечания на Историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненныя генерал майором Иваном Болтиным. СПб., 1788. Т. 1–2. T II. С. 497.] говорит про Тимофея Архипыча, что он умел ловко подмечать рельефные черты окружающего его общества и весьма метко определить противоречивые свойства характера Анны Иоанновны. За ее склонность к благочестию и монашеству он называл ее Анфисой и предрекал ей монастырь, а ее строптивость и самодурство выражал в следующем присловье, которое произносил постоянно при виде Анны Иоанновны: «Дон, дон, дон! – царь Иван Васильевич!»
Татищев рассказывает, что Тимофей Архипыч его недолюбливал за то, что он не был суеверен и руки его не целовал. «Однажды, – пишет Татищев, – перед отъездом в Сибирь, я приехал проститься с царицей; она, жалуя меня, спросила оного шалуна: скоро ли я возвращусь? Он отвечал на это: „Руды много накопает, да и самого закопают“».
Пророчество это однако не сбылось.
Друг царицы Прасковьи, Настасья Александровна Нарышкина, питала к Тимофею Архипычу чувство глубокого уважения и доверия, чтила его память и после его смерти. Ее правнучка, Елис. Алек. Нарышкина, сообщает о Тимофее Архипыче следующее:[4 - См.: Русский архив. 1874. № I. С. 612.] «По занятиям этот блаженный был живописец и с юных лет расписывал храмы; последней его работой были в Чудовом монастыре, где он, между прочим, по преданию, поместил портреты царицы и ее друга Нарышкиной; все полученные там им деньги за работы, как и все свое остальное имущество, он раздал бедным, и последние годы своей жизни употребил на странствования по Святым местам».
Далее та же именитая дама приводит следующий религиозно-мистический и суеверно-поэтический рассказ, который мы передаем в сокращении:
«В последние годы жизни Н.А. Нарышкина, по обыкновению своему, пребывала в своей моленной. Однажды, более чем когда-либо озабоченная будущностью своего потомства ввиду возмущавших ее душу преобразований и реформ, введенных в Россию Петром I, она пала на колени и в пылу религиозного увлечения возносила к небесам молитву о том, чтобы род ее неизменно оставался верен истинному православию и не прекращался никогда. Внезапно ее озаряет видение: она видит перед собою, на воздусех, коленопреклоненным Тимофея Архипыча, держащего в руке свою длинную седую бороду. Обращаясь к ней, он произнес: „Настасья, ты молила Бога, чтобы род твой не пресекался и пребывал в православии; Господь определил иначе, и молитва твоя услышана быть не может. Но я замолил Всевышнего, и доколе в семье твоей будет сохраняться в целости моя борода, желание твое будет исполнено, и род твой не прекратится на земле“». Устрашенная и взволнованная этим видением и словами, Нарышкина упала и лишилась чувств. Когда ее подняли, и она пришла в себя, то в руках ее оказалась длинная седая борода, «та самая, которую я, – прибавляет ее правнучка, – видела у свекра моего, Ив. Алек. Нарышкина, родного внука Наст. Алек. Нарышкиной». Борода эта сохранялась в особенном ящике, на дне которого лежала шелковая подушка с вышитым на ней крестом, и на этой подушке покоилась эта реликвия, или семейный талисман.
«Мне особенно памятна эта борода, – продолжает Е.А. Нарышкина, – потому что вскоре после моего замужества свекровь моя настояла, чтобы я временно перевезла ее к себе в дом в надежде, что ее присутствие в нашем доме принесет с собою благословение Божие и что у нас с мужем будут дети. Не могу теперь достоверно определить, в какую именно эпоху борода исчезла и, несмотря на самые тщательные розыски, не могла быть отыскана. Когда хватились бороды и не нашли ее, то, после многих тщетных поисков, мы остановились на том убеждении, что мой свекор, переезжая в новый дом, вздумал поместить в этом ящике свою коллекцию белых мышей, которых он очень любил и для которых счел это помещение весьма удобным хранилищем при переезде. Затем остается предположить, что мыши привели эту бороду в такое состояние, что сам Нарышкин, боясь упреков жены, выкинул ее по приезде в новый дом, или прислуга, приводя в порядок шкатулку, забросила или потеряла эту бороду; при этом достойно замечания, что в год исчезновения бороды получены были известия от старшего брата мужа, проживавшего с семьею за границею, что у единственного сына его Александра появились первые признаки того тяжкого недуга, который свел его в могилу; т. к. он наследников после себя не оставил, эта ветвь Нарышкиных, после кончины моего мужа, действительно пресеклась».
II
Ксения Григорьевна
Во время императрицы Елисаветы Петровны известна была юродивая Ксения Григорьевна,[5 - Сведение это мы берем из описания Смоленского кладбища, составленного священником Стефаном Опатовичем (См. Опатович С.И. Смоленское кладбище в С.-Петербурге. Ист. очерк//Русская старина. 1873. Авг. С. 168–200).] жена придворного певчего Андрея Федорова Петрова, «состоявшего в чине полковника». Ксения в молодых годах осталась вдовою (26 лет); раздав все свое состояние бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, не имея нигде постоянного жилища. Главным местопребыванием ее служила Петербургская сторона, приход св. апостола Матфея, где одна улица называлась ее именем: «Андрей Петров». По преданию, Ксения пользовалась большим уважением у петербургских извозчиков, которые, завидя ее где-нибудь на улице, наперерыв один перед другим предлагали ей свои услуги, в том убеждении, что кому из них удастся хотя несколько провезти Ксению, тому непременно повезет счастие. Год смерти Ксении неизвестен; некоторые уверяют, что она погребена на Смоленском кладбище еще до первого наводнения, случившегося в 1777 году; при жизни предсказала жителям Петербургской стороны смерть императрицы Елисаветы Петровны 25 декабря 1761 года. Ксения ходила по Петербургской стороне и говорила жителям: «Пеките блины, вся Россия будет печь блины». На другой день императрица внезапно скончалась. По другим рассказам Ксения скончалась в царствование Павла Петровича, но это неверно: в списках кладбищенских за это время имя ее не встречается.
По преданию, в скором времени после ее погребения посетители разобрали всю могильную насыпь. Сделана была другая, и усердствующими лицами на могиле положена плита. Но плита скоро была разломана и разнесена по домам. Другая плита также недолго оставалась целою. Ломая камень и разбирая землю, посетители бросали на могилу Ксении посильные денежные пожертвования, а кладбищенские нищие этим пользовались и забирали деньги себе. Тогда к могиле прикрепили кружку и на собранные таким образом пожертвования над могилою Ксении поставили памятник в виде часовни, которая существует и теперь. Здесь же находится кружка, куда жертвователи опускают свои приношения. Половина собираемой таким образом суммы поступает в пользу попечительства, а другая остается в церкви на неугасимую лампаду на гробе Ксении. Всей суммы в течение года высыпается из этой кружки около 300 руб. серебром. Могила Ксении посещается ежедневно на Смоленском кладбище массою посетителей, и ни на одной из могил не служится столько панихид. Надпись на могиле Ксении следующая: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души».
В распоряжении нашем находится крайне интересный архивный документ, касающийся пророчества этой юродивой. Это собственно прошение о бедности к императору Павлу I, поданное надворным советником Думашевым, 15 июня 1797 года. Вот извлечение из него, касающееся нашего повествования: «Прими, монарх славы, о чем доношу, есть либо со мною все то не совершилось поднесь и с особою вашею умолк бы навсегда, но теперь на совести лежит, чтоб вам не донесть. В 1766 году, генваря 10 дня, был день моего рождения; накануне моих именин, прожив я с моею женою девять месяцев в Петербурге, не получил никакой милости кроме крайнего прожитку, и надобно нам было отъезжать в Москву. Мы жили тогда в доме вместе с покойною несчастною фрейлиною Анною Алексеевною Хитрово, именным повелением нам приказано жить с нею и ехать вместе в Москву; жена моя ей была внучатая сестра, по одному родству она нам была и приурочена.
Вдруг в оное число вышла к нам Богу угодная юродивая женщина, называемая Андрей Федорыч, весь город ее знал и почитал таковою. Мы все весьма обрадовались ее приходу и испугались, за счастье считали – к кому она войдет в дом. Между многими от нас вопросами она мало говорила, и надобно вслушиваться, что скажет; о прошедшем случае матери моей и несчастии с нею сказала догадками; что я завтра именинник и что мы этот день будем плакать и молиться и все люди наши: я спрашивал: «Да за что и отчего?» – она сказала: «Ну да царь заставит вас плакать от радости, и после еще много слез будет у вас»; я говорю: «Какой царь, скажи мне» – «Ну да как запоют Христос Воскресе, увидишь»,[6 - Император Павел I короновался в первый день Пасхи.] – показала руками на свою голову, и окружила и пальцами сделала крест; мы, государь, изумились. Говорит: «Он очень будет счастлив»; жене моей говорит: «Ты у меня так дородна, как его жена». – «Какая жена и чья?» – спрашивали. «Ну, вон его жена!» – указала на ваш портрет; она вместе, опять показала пальцами крест, Даже мы, монарх, трое друг с другом не смели говорить, – совершилось подлинно в нынешнем году в свои самые именины генваря 11 дня, получил известие от Дмитрия Прокофьевича Трощинского[7 - Обер-прокурор в царствование императора Павла I и министр при императоре Александре I.] о ваших ко мне милостях пожалованием денег на оплату долгов; рыданий и молений много было сие число, а паче меня удивило, взяла за мою ногу, шпоры украли, и плакала, то донесу об оном, когда государь в несчастии матери моей накануне вашего отъезда из Петербурга…
Государь! Ваш родитель, мой отец и божество мое, изволил матери моей сто, а мне пятьдесят червонных прислать на дорогу и мне шпоры с своих ножек, с тем, чтоб это было негласно; оные шпоры во весь Прусский поход неоцененным даром при мне хранились, и когда я бывал за майора, всегда на мне, но, по возвращении из Пруссии в Россию, на Валдаях, меня в ночи всего обокрали, остался в чем был, много плакал об оных шпорах, последняя сказала: «Я не дождусь праздника Петра и Павла, а вы доживете». Далее, государь, умолчу описать подробно, что она говорила о царе; дай, Боже! чтоб оное осталось в России по ее предсказанию, и она сказала покойному Николаю Ивановичу Рославлеву, он тогда был в гвардии майором, и был посылан к оной Андрею Федорычу; после он нам пересказывал за секрет пред своею смертию, – все сбылось, что она ему сказала, в предшедшем 1796 году.
Государь, не приемли от вашего вам подданного за выдумку и слог, клянусь присягою вам, крестом и Евангелием и моею головою, а вашим мечом, что все сие поднесь истинная правда».
III
Семен Митрич
Самым замечательным на поприще юродства в Москве в начале нынешнего столетия, был Семен Митрич (родился в 1770 году, умер 31 декабря 1860 года). В молодости он занимался башмачною торговлею на Смоленском рынке, начало его юродства можно отнести к эпохе Новинского в Москве пожара, в 1804 году. У него сгорела лавка; потеря всего имущества сильно подействовала на него. «Пламя пожара осветило перед ним всю нищету и суетность земных забот и попечений», – говорит его анонимный биограф в «Домашней беседе» В.И. Аскоченского. По другим сказаниям, было в Москве одно купеческое семейство, состоявшее из отца и сыновей; жили они хорошо, но, по смерти отца, сыновья поссорились и разделились; при разделе один обманул другого, и вот начали жить они отдельно, проклиная друг друга. Один из братьев скоро умер, успев отдать свою дочь в Никитский монастырь, где она жила до последнего времени, а другой весь прожился, стал юродствовать и наконец сделался Семеном Митричем. Он сперва приютился на паперти при церкви св. Троицы, где исправлял между прочим должности чтеца и певца. Во время нашествия французов он не выходил из Москвы и бродил по пустырям и обгорелым местам. В 1816 году он поселился на Арбате, в доме купца Дронова, а в 1821 году, при встрече на улице с московским обер-полицмейстером Шульгиным, взят был в сумасшедший дом. При испытании его не признали умалишенным и выпустили на свободу. Семен Митрич вырыл себе землянку во дворе дома купца Ильина, но вскоре пожелал опять на Арбат, к тому же Дронову. Наконец, в 1826 году он переселился на житье в приход св. Николая, что на Щепах, в доме купца Чамова; отсюда он выходил редко, а с 1836-го до 1852 года почти постоянно оставался в саду, летом и зимою.
Прежде он все зимой бегал на реку умываться, бегал босой, в одной рубашке, в какую бы то ни было погоду зной, стужа, 20 мороза для него не существовали. Ходил он с открытой головой, иногда напевал вслух; но ни у кого ничего не брал и не просил. Потом он засел дома и начал предсказывать. Чтобы попасть к нему, надо было, выйдя в ворота, пройти через грязный переулок на заднем дворе, спуститься в подземелье, и тут направо была кухня, где он жил.
Кухня – вроде подвала со сводом, прямо – русская печь, направо – окно и стена, уставленная образами с горящими лампадами; налево, в углу, лежал на кровати Семен Митрич; возле него стояла лохань; в подвале мрак, сырость, грязь, вонь.
Прежде Семен Митрич лежал на печи, потом лег на постель, с которой ни разу не вставал в продолжении нескольких лет. Представлял он из себя какую-то массу живой грязи, в которой даже трудно было различить, что это – человеческий ли образ или животное, лежа на постели, Семен Митрич совершал все свои отправления. Прислуживавшая ему женщина одевала и раздевала его, иногда по два и по три раза обтирала, мыла и переменяла на нем белье.
«Если же не доглядишь, – рассказывала она, – он и лежит… А то, – прибавляла, – и ручку, бывало, замарает: ты подойдешь к нему, а он тебя и перекрестит».
Такую жизнь Семена Митрича почитали за великий подвиг. Церкви он не знал, Богу тоже не молился; не любил, чтобы его спрашивали о чем-нибудь; прямых ответов он не давал, а о себе говорил в третьем лице. Понимать его надо было со сноровкою. Спроси, например его кто-нибудь о женихе или о пропаже, или, как одна барыня спросила, куда ее муж убежал, он или обольет помоями, или обдаст глаза какою-нибудь нечистью.
По рассказам современников, он будто бы обладал глубокою прозорливостью, но для уразумения его ответа опять нужна была сноровка, потому что он иногда говорил, что ему взбредет на ум: «Полено, таракан, доска, воняет, вошь», – и т. п. Почитательницы его над каждым его словом ломали голову, отыскивая в нем таинственное значение. Как гласит надпись над его гравированным портретом: «Он узнавал настоящее и прошедшее, даже предсказывал некоторые случаи, и они исполнялись; другие же от самых ударов его получали облегчение».
Богатая купчиха из Рогожской выдавала дочь замуж и приехала спросить у Семена Митрича, каков жених? Выдавать ли за него дочь и т. п. Вошла и села она, а он и говорит: «Доски». – «Что за доски? – спрашивает купчиха. – Какие у меня доски! У меня все сундуки, набитые шелком, да бархатом!».
– А мы отвечаем ей, – говорила его прислужница, – что не знаем, а сами думаем: «Как не знать, известно, что значит доски – гроб». Так ведь и сделалось: дочь-то купчихи умерла.
Сам Семен Митрич умер на девятидесятом году от рождения. Во время его агонии целая толпа купчих не отходила от него. В день похорон его стечение народа было страшное. Хоронили его штабс-капитан Заливкий да его супруга из купеческого рода. Где лежало тело, тут нельзя было пролезть. Двор постоянно был полон. Все имущество его растащили на память; один тащит подушку его, другой какую-нибудь его тряпицу, третий ложку, которою он ел, четвертый его опорки и т. д. Хоронили его на четвертый день после смерти, но многие сердились, зачем так скоро его хоронят. Переулки, примыкавшие к дому, где он жил, были переполнены народом. В церкви, во время обедни, у гроба его стояла стена почитателей: все лезли, кто приложиться, кто только чтоб до него дотронуться. И вся эта масса народа по окончании отпевания подняла гроб и понесла на Ваганьково кладбище.
Впереди всей процессии скакал не известный никому юродивый, босиком, в черной рубашке. Скачет, скачет, скачет – остановится, три раза поклонится гробу и снова скачет… Потом несли образ, шли певчие, духовенство, затем народ, несший на головах гроб, и, наконец, экипажи. На кладбище ревнителями было устроено обильное угощение (разошлись поздно). И долго еще Москва известного круга ни о чем больше не говорила, как о Семене Митриче. Двое, по рассказам, в то же время стали писать его житие: студент и священник, но, к сожалению, жизнеописание Семена Митрича в печати не появилось.
IV
Михаил Дурасов, Евсевий, Соломония и Неонилла
В царствование императора Александра I в Москве, кроме Семена Митрича, пользовались известностью еще несколько юродивых. Так, в Симоновом монастыре проживал Мих. Зин. Дурасов, в мире носивший чин генерал-лейтенанта, жил он в монастыре тайно с высочайшего дозволения, и чин его был известен одному настоятелю монастыря. Он был ревностный ученик и последователь знаменитого Саровского подвижника Серафима и отличался самою строгою подвижническою жизнью. Нередко он казался весьма странным, совершенным юродивым, но под этою странностью, по словам знавших его, он скрывал цель высокого своего любомудрия и уклонял от себя мир со всеми прелестями его. Дурасов скончался 20 июня 1828 года, 56 лет, погребен он в Симоновом монастыре.
В Страстном монастыре проживал в это же время монах Евсевий (скончавшийся в 1836 году) Это был тогда самый популярнейший юродивый в Москве Он отличался вполне безупречною жизнью и, по словам монахов, «был славен особливо по великому терпению разных поношений и биений не понимавших его сокровенной духовной жизни»
При отпевании и несении тела его из Страстного монастыря до Симонова, многие тысячи народа окружали и сопровождали гроб его. Над прахом его было сказано, что в лице его «было видимое торжество веры и нищеты духовной, которая славнее и величественнее всякого блеска богатых и сильных земли»; это надгробное слово говорил известный в то время проповедник архимандрит Мельхиседек.
В то время в Симоновом монастыре, у юго-восточной башни, было отведено особенное место для юродивых, на котором обитель и давала безвозмездное последнее пристанище всем странным и нищим духом, которых в народе зовут также блаженными. Еще до сих пор там целы могильные плиты двух знаменитых в свое время женщин-юродивых, девиц Соломонии и Неониллы. На памятнике первой написано: «Под сим камнем погребено тело рабы Божьей девицы Соломонии, скончавшейся 1809 года, мая 9, на 55-м году от рождения». На памятнике второй: «Под сим камнем погребено тело рабы Божьей девицы Неониллы болящей, скончавшейся в ноябре 29-го 1824 года».
V
Аннушка
В Петербурге, в царствование императора Николая I, пользовалась большою популярностью юродивая старушка Аннушка или Анна Ивановна. По внешности это была небольшого роста женщина, лет шестидесяти, с весьма тонкими красивыми чертами лица, одетая всегда бедно, с ридикюлем в руках, всегда полным разных даяний. Особенностью этой юродивой была страсть к нюхательному табаку. Анна Ивановна происходила из знатной фамилии, говорили даже, что она была княжеского рода, воспитание она получила чуть ли не в Смольном институте, прекрасно говорила по-французски и по-немецки, в молодости влюбилась в гвардейского офицера, который женился на другой. Тогда она покинула Петербург и, спустя несколько лет, явилась в нем юродивой. Она, несмотря ни на какую погоду, ходила по городу, собирала милостыню и раздавала ее другим; большею частью она проживала на Сенной, у одного домовладельца Дурышкина, и в квартире священника Чулкова, известного отца Василия, вышедшего из народа и пользовавшегося самою большою популярностью между купцами, мастерами и всяким бедным людом.
Михаил Иванович Пыляев
Старое житье
«В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что «лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат, св. Анастасия и св. Пятница велят им» и проч. …»
М. И. Пыляев
Стародавние старчики, пустосвяты и юродцы
В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что «лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат, св. Анастасия и св. Пятница велят им» и проч.
В следующем затем столетии злоупотребления в этом отношении достигли крайних пределов, так что патриарх принужден был запретить пускать в церкви юродивых и нищих. «Понеже, – сказано было в окружной грамоте 1646 года, – от их крику и писку православным христианам божественного пения не слыхать; да тее в церкви Божия приходят аки разбойники с палки, а под теми палки у них бывает копейца железные, и бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная».[1 - См.: Макарий (Бултаков М.П.). История Русской Церкви. Т. 8. Кн. 3. СПб., 1877. С. 238.] В начале XVIII века в обеих столицах развелось особенно много юродивых и других странных и полупомешанных людей, которые являлись в церкви в «кощунных одеждах», кричали, пели и делали разные бесчинства во время богослужения – единственно из корыстного желания обратить на себя внимание богомольцев.
Такие беспорядки в церквах вызвали со стороны Святейшего Синода следующее постановление от 14 июля 1732 года: «Юродивых по церквам в столицах бродить не допущать, в кощунных же одеяниях и в церквах не впущать, а в приличном одеянии они могут входить, но стояли бы с должною тихостию не между народом, но в удобном уединенном месте. А буде они станут чинить каковые своеволия, и их к тому не попускать и показывать за то им, яко юродивым, от священноцерковнослужителей угрозительные способы. А ежели они от того страху никакого иметь не будут, то их во время всякого церковного пения из тех церквей высылать вон. Каковые же ныне юродивые при здешних церквах суть, тех сыскать в духовное правление и какими возможно способы испытывать, наипаче о том, не притворствуют ли они, и потом следовать как надлежит: чей он крестьянин, как и отколь сюда пришел и где пристанище имеет, и отколь пищу и одежду получает, и собираемые от подателей деньги куда они отдают».
Из этого указа видно, что Синод преследовал не юродство, а только соблазнительные недостатки юродивых; тем более, что в то время некоторые из юродивых жили даже при дворе, и им поручались многие благочестивые дела, как, например, раздача милостыни и проч. Императрица Анна, пугливая и подозрительная, с особенным вниманием следила за появляющимися в разных вотчинах, как она выражалась, «якобы святыми», т. е. теми типическими проходимцами через всю историю России, так называемыми «юродивыми», нередко вещавшими в иносказательной форме о разных тягостях и печалях народных, о злоупотреблениях власти и т. д. При дворе матери императрицы Анны Иоанновны, набожной царицы Прасковьи Федоровны, находилось множество разного рода калек и юродов. Историк Татищев, посещавший царицу, рассказывает, что у нее был целый госпиталь уродов, юродов, ханжей и шалунов. Из числа их особенным почетом пользовался некто Тимофей Архипыч; у него целовали руки, просили благословения, ждали пророческих сказаний, и каждому его простому слову придавали загадочное и таинственное значение.
I
Тимофей Архипыч
К. Тромонин[2 - См.: Тромонин К.Я. Достопамятности Москвы. М., 1842. № 6. С.73.] говорит о нем следующее: «1731 года, мая в 29-й день, при державе благочестивейшей великой государыни нашей императрицы Анны Иоанновны всея России, преставился раб Божий Тимофей Архипов сын, который, оставя иконописное художество, юродствовал миру, а не себе; а жил при дворе матери ее императорского величества государыни императрицы благочестивейшей государыни царицы и великой княгини Параскевии Федоровны двадцать осемь лет и погребен в 30-й день мая в Чудовом монастыре, в стене Церкви Михаила Архангела, наружу с южной стороны».
К этому Тромонин добавляет, что «над гробницею его (т. е. Архипыча) находится картина, где Тимофей изображен лежащим в гробе; возле него стоит, как изустно по преданию, императрица Анна Иоанновна».
Болтин[3 - См.: Болтин И.Н. Примечания на Историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненныя генерал майором Иваном Болтиным. СПб., 1788. Т. 1–2. T II. С. 497.] говорит про Тимофея Архипыча, что он умел ловко подмечать рельефные черты окружающего его общества и весьма метко определить противоречивые свойства характера Анны Иоанновны. За ее склонность к благочестию и монашеству он называл ее Анфисой и предрекал ей монастырь, а ее строптивость и самодурство выражал в следующем присловье, которое произносил постоянно при виде Анны Иоанновны: «Дон, дон, дон! – царь Иван Васильевич!»
Татищев рассказывает, что Тимофей Архипыч его недолюбливал за то, что он не был суеверен и руки его не целовал. «Однажды, – пишет Татищев, – перед отъездом в Сибирь, я приехал проститься с царицей; она, жалуя меня, спросила оного шалуна: скоро ли я возвращусь? Он отвечал на это: „Руды много накопает, да и самого закопают“».
Пророчество это однако не сбылось.
Друг царицы Прасковьи, Настасья Александровна Нарышкина, питала к Тимофею Архипычу чувство глубокого уважения и доверия, чтила его память и после его смерти. Ее правнучка, Елис. Алек. Нарышкина, сообщает о Тимофее Архипыче следующее:[4 - См.: Русский архив. 1874. № I. С. 612.] «По занятиям этот блаженный был живописец и с юных лет расписывал храмы; последней его работой были в Чудовом монастыре, где он, между прочим, по преданию, поместил портреты царицы и ее друга Нарышкиной; все полученные там им деньги за работы, как и все свое остальное имущество, он раздал бедным, и последние годы своей жизни употребил на странствования по Святым местам».
Далее та же именитая дама приводит следующий религиозно-мистический и суеверно-поэтический рассказ, который мы передаем в сокращении:
«В последние годы жизни Н.А. Нарышкина, по обыкновению своему, пребывала в своей моленной. Однажды, более чем когда-либо озабоченная будущностью своего потомства ввиду возмущавших ее душу преобразований и реформ, введенных в Россию Петром I, она пала на колени и в пылу религиозного увлечения возносила к небесам молитву о том, чтобы род ее неизменно оставался верен истинному православию и не прекращался никогда. Внезапно ее озаряет видение: она видит перед собою, на воздусех, коленопреклоненным Тимофея Архипыча, держащего в руке свою длинную седую бороду. Обращаясь к ней, он произнес: „Настасья, ты молила Бога, чтобы род твой не пресекался и пребывал в православии; Господь определил иначе, и молитва твоя услышана быть не может. Но я замолил Всевышнего, и доколе в семье твоей будет сохраняться в целости моя борода, желание твое будет исполнено, и род твой не прекратится на земле“». Устрашенная и взволнованная этим видением и словами, Нарышкина упала и лишилась чувств. Когда ее подняли, и она пришла в себя, то в руках ее оказалась длинная седая борода, «та самая, которую я, – прибавляет ее правнучка, – видела у свекра моего, Ив. Алек. Нарышкина, родного внука Наст. Алек. Нарышкиной». Борода эта сохранялась в особенном ящике, на дне которого лежала шелковая подушка с вышитым на ней крестом, и на этой подушке покоилась эта реликвия, или семейный талисман.
«Мне особенно памятна эта борода, – продолжает Е.А. Нарышкина, – потому что вскоре после моего замужества свекровь моя настояла, чтобы я временно перевезла ее к себе в дом в надежде, что ее присутствие в нашем доме принесет с собою благословение Божие и что у нас с мужем будут дети. Не могу теперь достоверно определить, в какую именно эпоху борода исчезла и, несмотря на самые тщательные розыски, не могла быть отыскана. Когда хватились бороды и не нашли ее, то, после многих тщетных поисков, мы остановились на том убеждении, что мой свекор, переезжая в новый дом, вздумал поместить в этом ящике свою коллекцию белых мышей, которых он очень любил и для которых счел это помещение весьма удобным хранилищем при переезде. Затем остается предположить, что мыши привели эту бороду в такое состояние, что сам Нарышкин, боясь упреков жены, выкинул ее по приезде в новый дом, или прислуга, приводя в порядок шкатулку, забросила или потеряла эту бороду; при этом достойно замечания, что в год исчезновения бороды получены были известия от старшего брата мужа, проживавшего с семьею за границею, что у единственного сына его Александра появились первые признаки того тяжкого недуга, который свел его в могилу; т. к. он наследников после себя не оставил, эта ветвь Нарышкиных, после кончины моего мужа, действительно пресеклась».
II
Ксения Григорьевна
Во время императрицы Елисаветы Петровны известна была юродивая Ксения Григорьевна,[5 - Сведение это мы берем из описания Смоленского кладбища, составленного священником Стефаном Опатовичем (См. Опатович С.И. Смоленское кладбище в С.-Петербурге. Ист. очерк//Русская старина. 1873. Авг. С. 168–200).] жена придворного певчего Андрея Федорова Петрова, «состоявшего в чине полковника». Ксения в молодых годах осталась вдовою (26 лет); раздав все свое состояние бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, не имея нигде постоянного жилища. Главным местопребыванием ее служила Петербургская сторона, приход св. апостола Матфея, где одна улица называлась ее именем: «Андрей Петров». По преданию, Ксения пользовалась большим уважением у петербургских извозчиков, которые, завидя ее где-нибудь на улице, наперерыв один перед другим предлагали ей свои услуги, в том убеждении, что кому из них удастся хотя несколько провезти Ксению, тому непременно повезет счастие. Год смерти Ксении неизвестен; некоторые уверяют, что она погребена на Смоленском кладбище еще до первого наводнения, случившегося в 1777 году; при жизни предсказала жителям Петербургской стороны смерть императрицы Елисаветы Петровны 25 декабря 1761 года. Ксения ходила по Петербургской стороне и говорила жителям: «Пеките блины, вся Россия будет печь блины». На другой день императрица внезапно скончалась. По другим рассказам Ксения скончалась в царствование Павла Петровича, но это неверно: в списках кладбищенских за это время имя ее не встречается.
По преданию, в скором времени после ее погребения посетители разобрали всю могильную насыпь. Сделана была другая, и усердствующими лицами на могиле положена плита. Но плита скоро была разломана и разнесена по домам. Другая плита также недолго оставалась целою. Ломая камень и разбирая землю, посетители бросали на могилу Ксении посильные денежные пожертвования, а кладбищенские нищие этим пользовались и забирали деньги себе. Тогда к могиле прикрепили кружку и на собранные таким образом пожертвования над могилою Ксении поставили памятник в виде часовни, которая существует и теперь. Здесь же находится кружка, куда жертвователи опускают свои приношения. Половина собираемой таким образом суммы поступает в пользу попечительства, а другая остается в церкви на неугасимую лампаду на гробе Ксении. Всей суммы в течение года высыпается из этой кружки около 300 руб. серебром. Могила Ксении посещается ежедневно на Смоленском кладбище массою посетителей, и ни на одной из могил не служится столько панихид. Надпись на могиле Ксении следующая: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души».
В распоряжении нашем находится крайне интересный архивный документ, касающийся пророчества этой юродивой. Это собственно прошение о бедности к императору Павлу I, поданное надворным советником Думашевым, 15 июня 1797 года. Вот извлечение из него, касающееся нашего повествования: «Прими, монарх славы, о чем доношу, есть либо со мною все то не совершилось поднесь и с особою вашею умолк бы навсегда, но теперь на совести лежит, чтоб вам не донесть. В 1766 году, генваря 10 дня, был день моего рождения; накануне моих именин, прожив я с моею женою девять месяцев в Петербурге, не получил никакой милости кроме крайнего прожитку, и надобно нам было отъезжать в Москву. Мы жили тогда в доме вместе с покойною несчастною фрейлиною Анною Алексеевною Хитрово, именным повелением нам приказано жить с нею и ехать вместе в Москву; жена моя ей была внучатая сестра, по одному родству она нам была и приурочена.
Вдруг в оное число вышла к нам Богу угодная юродивая женщина, называемая Андрей Федорыч, весь город ее знал и почитал таковою. Мы все весьма обрадовались ее приходу и испугались, за счастье считали – к кому она войдет в дом. Между многими от нас вопросами она мало говорила, и надобно вслушиваться, что скажет; о прошедшем случае матери моей и несчастии с нею сказала догадками; что я завтра именинник и что мы этот день будем плакать и молиться и все люди наши: я спрашивал: «Да за что и отчего?» – она сказала: «Ну да царь заставит вас плакать от радости, и после еще много слез будет у вас»; я говорю: «Какой царь, скажи мне» – «Ну да как запоют Христос Воскресе, увидишь»,[6 - Император Павел I короновался в первый день Пасхи.] – показала руками на свою голову, и окружила и пальцами сделала крест; мы, государь, изумились. Говорит: «Он очень будет счастлив»; жене моей говорит: «Ты у меня так дородна, как его жена». – «Какая жена и чья?» – спрашивали. «Ну, вон его жена!» – указала на ваш портрет; она вместе, опять показала пальцами крест, Даже мы, монарх, трое друг с другом не смели говорить, – совершилось подлинно в нынешнем году в свои самые именины генваря 11 дня, получил известие от Дмитрия Прокофьевича Трощинского[7 - Обер-прокурор в царствование императора Павла I и министр при императоре Александре I.] о ваших ко мне милостях пожалованием денег на оплату долгов; рыданий и молений много было сие число, а паче меня удивило, взяла за мою ногу, шпоры украли, и плакала, то донесу об оном, когда государь в несчастии матери моей накануне вашего отъезда из Петербурга…
Государь! Ваш родитель, мой отец и божество мое, изволил матери моей сто, а мне пятьдесят червонных прислать на дорогу и мне шпоры с своих ножек, с тем, чтоб это было негласно; оные шпоры во весь Прусский поход неоцененным даром при мне хранились, и когда я бывал за майора, всегда на мне, но, по возвращении из Пруссии в Россию, на Валдаях, меня в ночи всего обокрали, остался в чем был, много плакал об оных шпорах, последняя сказала: «Я не дождусь праздника Петра и Павла, а вы доживете». Далее, государь, умолчу описать подробно, что она говорила о царе; дай, Боже! чтоб оное осталось в России по ее предсказанию, и она сказала покойному Николаю Ивановичу Рославлеву, он тогда был в гвардии майором, и был посылан к оной Андрею Федорычу; после он нам пересказывал за секрет пред своею смертию, – все сбылось, что она ему сказала, в предшедшем 1796 году.
Государь, не приемли от вашего вам подданного за выдумку и слог, клянусь присягою вам, крестом и Евангелием и моею головою, а вашим мечом, что все сие поднесь истинная правда».
III
Семен Митрич
Самым замечательным на поприще юродства в Москве в начале нынешнего столетия, был Семен Митрич (родился в 1770 году, умер 31 декабря 1860 года). В молодости он занимался башмачною торговлею на Смоленском рынке, начало его юродства можно отнести к эпохе Новинского в Москве пожара, в 1804 году. У него сгорела лавка; потеря всего имущества сильно подействовала на него. «Пламя пожара осветило перед ним всю нищету и суетность земных забот и попечений», – говорит его анонимный биограф в «Домашней беседе» В.И. Аскоченского. По другим сказаниям, было в Москве одно купеческое семейство, состоявшее из отца и сыновей; жили они хорошо, но, по смерти отца, сыновья поссорились и разделились; при разделе один обманул другого, и вот начали жить они отдельно, проклиная друг друга. Один из братьев скоро умер, успев отдать свою дочь в Никитский монастырь, где она жила до последнего времени, а другой весь прожился, стал юродствовать и наконец сделался Семеном Митричем. Он сперва приютился на паперти при церкви св. Троицы, где исправлял между прочим должности чтеца и певца. Во время нашествия французов он не выходил из Москвы и бродил по пустырям и обгорелым местам. В 1816 году он поселился на Арбате, в доме купца Дронова, а в 1821 году, при встрече на улице с московским обер-полицмейстером Шульгиным, взят был в сумасшедший дом. При испытании его не признали умалишенным и выпустили на свободу. Семен Митрич вырыл себе землянку во дворе дома купца Ильина, но вскоре пожелал опять на Арбат, к тому же Дронову. Наконец, в 1826 году он переселился на житье в приход св. Николая, что на Щепах, в доме купца Чамова; отсюда он выходил редко, а с 1836-го до 1852 года почти постоянно оставался в саду, летом и зимою.
Прежде он все зимой бегал на реку умываться, бегал босой, в одной рубашке, в какую бы то ни было погоду зной, стужа, 20 мороза для него не существовали. Ходил он с открытой головой, иногда напевал вслух; но ни у кого ничего не брал и не просил. Потом он засел дома и начал предсказывать. Чтобы попасть к нему, надо было, выйдя в ворота, пройти через грязный переулок на заднем дворе, спуститься в подземелье, и тут направо была кухня, где он жил.
Кухня – вроде подвала со сводом, прямо – русская печь, направо – окно и стена, уставленная образами с горящими лампадами; налево, в углу, лежал на кровати Семен Митрич; возле него стояла лохань; в подвале мрак, сырость, грязь, вонь.
Прежде Семен Митрич лежал на печи, потом лег на постель, с которой ни разу не вставал в продолжении нескольких лет. Представлял он из себя какую-то массу живой грязи, в которой даже трудно было различить, что это – человеческий ли образ или животное, лежа на постели, Семен Митрич совершал все свои отправления. Прислуживавшая ему женщина одевала и раздевала его, иногда по два и по три раза обтирала, мыла и переменяла на нем белье.
«Если же не доглядишь, – рассказывала она, – он и лежит… А то, – прибавляла, – и ручку, бывало, замарает: ты подойдешь к нему, а он тебя и перекрестит».
Такую жизнь Семена Митрича почитали за великий подвиг. Церкви он не знал, Богу тоже не молился; не любил, чтобы его спрашивали о чем-нибудь; прямых ответов он не давал, а о себе говорил в третьем лице. Понимать его надо было со сноровкою. Спроси, например его кто-нибудь о женихе или о пропаже, или, как одна барыня спросила, куда ее муж убежал, он или обольет помоями, или обдаст глаза какою-нибудь нечистью.
По рассказам современников, он будто бы обладал глубокою прозорливостью, но для уразумения его ответа опять нужна была сноровка, потому что он иногда говорил, что ему взбредет на ум: «Полено, таракан, доска, воняет, вошь», – и т. п. Почитательницы его над каждым его словом ломали голову, отыскивая в нем таинственное значение. Как гласит надпись над его гравированным портретом: «Он узнавал настоящее и прошедшее, даже предсказывал некоторые случаи, и они исполнялись; другие же от самых ударов его получали облегчение».
Богатая купчиха из Рогожской выдавала дочь замуж и приехала спросить у Семена Митрича, каков жених? Выдавать ли за него дочь и т. п. Вошла и села она, а он и говорит: «Доски». – «Что за доски? – спрашивает купчиха. – Какие у меня доски! У меня все сундуки, набитые шелком, да бархатом!».
– А мы отвечаем ей, – говорила его прислужница, – что не знаем, а сами думаем: «Как не знать, известно, что значит доски – гроб». Так ведь и сделалось: дочь-то купчихи умерла.
Сам Семен Митрич умер на девятидесятом году от рождения. Во время его агонии целая толпа купчих не отходила от него. В день похорон его стечение народа было страшное. Хоронили его штабс-капитан Заливкий да его супруга из купеческого рода. Где лежало тело, тут нельзя было пролезть. Двор постоянно был полон. Все имущество его растащили на память; один тащит подушку его, другой какую-нибудь его тряпицу, третий ложку, которою он ел, четвертый его опорки и т. д. Хоронили его на четвертый день после смерти, но многие сердились, зачем так скоро его хоронят. Переулки, примыкавшие к дому, где он жил, были переполнены народом. В церкви, во время обедни, у гроба его стояла стена почитателей: все лезли, кто приложиться, кто только чтоб до него дотронуться. И вся эта масса народа по окончании отпевания подняла гроб и понесла на Ваганьково кладбище.
Впереди всей процессии скакал не известный никому юродивый, босиком, в черной рубашке. Скачет, скачет, скачет – остановится, три раза поклонится гробу и снова скачет… Потом несли образ, шли певчие, духовенство, затем народ, несший на головах гроб, и, наконец, экипажи. На кладбище ревнителями было устроено обильное угощение (разошлись поздно). И долго еще Москва известного круга ни о чем больше не говорила, как о Семене Митриче. Двое, по рассказам, в то же время стали писать его житие: студент и священник, но, к сожалению, жизнеописание Семена Митрича в печати не появилось.
IV
Михаил Дурасов, Евсевий, Соломония и Неонилла
В царствование императора Александра I в Москве, кроме Семена Митрича, пользовались известностью еще несколько юродивых. Так, в Симоновом монастыре проживал Мих. Зин. Дурасов, в мире носивший чин генерал-лейтенанта, жил он в монастыре тайно с высочайшего дозволения, и чин его был известен одному настоятелю монастыря. Он был ревностный ученик и последователь знаменитого Саровского подвижника Серафима и отличался самою строгою подвижническою жизнью. Нередко он казался весьма странным, совершенным юродивым, но под этою странностью, по словам знавших его, он скрывал цель высокого своего любомудрия и уклонял от себя мир со всеми прелестями его. Дурасов скончался 20 июня 1828 года, 56 лет, погребен он в Симоновом монастыре.
В Страстном монастыре проживал в это же время монах Евсевий (скончавшийся в 1836 году) Это был тогда самый популярнейший юродивый в Москве Он отличался вполне безупречною жизнью и, по словам монахов, «был славен особливо по великому терпению разных поношений и биений не понимавших его сокровенной духовной жизни»
При отпевании и несении тела его из Страстного монастыря до Симонова, многие тысячи народа окружали и сопровождали гроб его. Над прахом его было сказано, что в лице его «было видимое торжество веры и нищеты духовной, которая славнее и величественнее всякого блеска богатых и сильных земли»; это надгробное слово говорил известный в то время проповедник архимандрит Мельхиседек.
В то время в Симоновом монастыре, у юго-восточной башни, было отведено особенное место для юродивых, на котором обитель и давала безвозмездное последнее пристанище всем странным и нищим духом, которых в народе зовут также блаженными. Еще до сих пор там целы могильные плиты двух знаменитых в свое время женщин-юродивых, девиц Соломонии и Неониллы. На памятнике первой написано: «Под сим камнем погребено тело рабы Божьей девицы Соломонии, скончавшейся 1809 года, мая 9, на 55-м году от рождения». На памятнике второй: «Под сим камнем погребено тело рабы Божьей девицы Неониллы болящей, скончавшейся в ноябре 29-го 1824 года».
V
Аннушка
В Петербурге, в царствование императора Николая I, пользовалась большою популярностью юродивая старушка Аннушка или Анна Ивановна. По внешности это была небольшого роста женщина, лет шестидесяти, с весьма тонкими красивыми чертами лица, одетая всегда бедно, с ридикюлем в руках, всегда полным разных даяний. Особенностью этой юродивой была страсть к нюхательному табаку. Анна Ивановна происходила из знатной фамилии, говорили даже, что она была княжеского рода, воспитание она получила чуть ли не в Смольном институте, прекрасно говорила по-французски и по-немецки, в молодости влюбилась в гвардейского офицера, который женился на другой. Тогда она покинула Петербург и, спустя несколько лет, явилась в нем юродивой. Она, несмотря ни на какую погоду, ходила по городу, собирала милостыню и раздавала ее другим; большею частью она проживала на Сенной, у одного домовладельца Дурышкина, и в квартире священника Чулкова, известного отца Василия, вышедшего из народа и пользовавшегося самою большою популярностью между купцами, мастерами и всяким бедным людом.