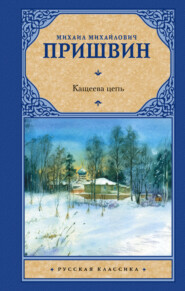По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой
Михаил Михайлович Пришвин
Кто мы? (Алгоритм)
«Ничего нет наивнее и хуже, как в наше время что-то скрывать от народа», – писал Михаил Пришвин, русский писатель, прозаик и публицист в годы Первой мировой войны. «Сейчас каждый, самый даже темный крестьянин, понимает, что не армия виновата, а внутренность, снабжающая армию».
По-другому и не могло быть в «обстановке настоящей рабской несвободы», – говорил Пришвин и показывал в своих заметках, что происходило в России накануне и в годы войны. Поражение стало закономерным итогом всего этого, – «так нам и надо», писал он, – однако затем случилась революция, сопровождаемая насилием, кровью, нуждой и голодом. Это тоже стало темой его статей и очерков, которые относятся к лучшим произведениям о послевоенной России.
Михаил Михайлович Пришвин
Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой
© Пришвин М.М., правообладатели
© ООО «Издательство Родина», 2023
Россия перед войной
Русский человек
Перед праздником вагоны были переполнены, и нас из второго класса перевели в первый. Тут в купе сидел один только пассажир, господин очень нездорового вида.
– Куда едете? – спросил его купец из второго класса.
Господин ответил неохотно. Но купец, очень добродушный с виду, не смущаясь этим, всех переспросил. Все ехали в N.
– Где же вы там хотите остановиться? – допрашивал нас купец.
Господин первого класса назвал «Петербургскую гостиницу».
– Сохрани вас бог! – воскликнул купец. – «Петербургская» – плохая гостиница, первое неудобство, конечно, клозет на дворе…
– Как! – изумился нездоровый господин. – Мне гостиницу рекомендовал X. как лучшую.
– X., хромой? – спросил купец.
– Вот уж не знаю, – ответил господин, – он мне писал, а так я его не знаю.
– Он хромой, – сказал купец, – ему ходить трудно, вот он вам и рекомендовал гостиницу поближе к своему дому, чтобы к вам почаще ходить. Плохая гостиница; первое неудобство я назвал, второе – насекомые, третье – прислуживает пьяный мужик.
Купец, загибая пальцы, перечислил все неудобства «Петербургской гостиницы». Пассажиры были в ужасе.
– Куда же, куда же нам деться? – спрашивали купца.
– Остановитесь в «Московской», – ответил он, – там очень хорошо.
И все благодарили купца, как благодетеля.
– Здорово я их! – сказал купец мне, когда нас с ним опять перевели во второй класс. – Здорово, ведь хозяин-то «Московской гостиницы» – я!
И закатился добродушнейшим смехом русский человек, хохотал до слез, меня заразил смехом.
– А вы коровьим маслом торгуете? – спросил он, успокоившись.
Долго допрашивал меня купец и наконец добился своего, узнал, чем я занимаюсь.
– Пишете, – одобрил он, – это правильная точка.
– Какой вы партии? – спросил я спутника.
– Партии я, конечно, черносотенной, – ответил он, – а в душе и по совести – трудовик…
И тут же, по русскому обыкновению, рассказал всю свою жизнь, как доказательство того, что он – трудовик. И правда, передо мной прошла трудовая жизнь. Мыл рюмочки у «Яра» – вот начало карьеры. И через пятьдесят лет – собственный трехэтажный каменный дом, «Московская гостиница» в N.
Вся жизнь как лишение, как подчинение себя каким-то мудрым правилам, найденным тут по пути, в самом процессе жизни. Приходилось даже отказывать себе в любви к дочери.
– Жена может любить ее, – рассказывал отец, – а мне нельзя: бояться не будет.
Так описывал купец свою жизнь как подвиг, в результате которого – каменный дом. Поезд приближался к монастырю, где раньше жил святой человек. Я заговорил о подвижнике. Купцу не хотелось начинать об этом. Я настаивал.
– Не верю я им, – сказал наконец мой спутник, – я верю только богу и умному человеку, – и решительно отклонил разговор о религии.
«Тоже аскет!» – приходили мне в голову отрывки из современных рассуждений о мещанстве как о результате церковного воспитания народа. И так ясно было теперь, что этот человек произошел не от церкви, не от интеллигенции, а прямо от земли, что передо мной – истинно русский, крепкий земле человек.
Мы говорили о земстве.
– Народники! – ядовито сказал купец. – Мы за народ, выбирайте нас, говорят, поют на все лады. А народ…
Купец вдруг надулся от смеха, залился на высочайшую ноту, не удержался на ней и, весь багровый, как-то пфыркнул губами и щеками.
– А народ, – хотел сказать что-то купец, но опять залился на ту же высокую ноту и опять пфыркнул. – Народ им верит, – сказал он наконец, – знаете наш народ. А они-то, они-то разливаются! Конечно, люди образованные, им и карты в руки. Народники!
Купец мой вдруг совсем преобразился. И как далеко было теперь то его добродушие, с которым он зазывал пассажиров первого класса в свою «Московскую гостиницу». Он теперь говорил ядовито одно:
– Народники!
– Кто они? – спросил я.
– Все, – ответил купец, – теперь и графы, дворяне, – все за народ. Да хотя возьмите Некрасова, на что уж народник был?
– Поэт Некрасов? – спросил я.
– Стихотворец, – ответил купец, – сочинял стихи о народе. А в душе?
– И в душе Некрасов любил народ, – заступился я.
– А в душе у него реакция, – ответил купец. – На словах они все народники, а в душе у всех реакция.
– И граф Толстой? – спросил я.
Михаил Михайлович Пришвин
Кто мы? (Алгоритм)
«Ничего нет наивнее и хуже, как в наше время что-то скрывать от народа», – писал Михаил Пришвин, русский писатель, прозаик и публицист в годы Первой мировой войны. «Сейчас каждый, самый даже темный крестьянин, понимает, что не армия виновата, а внутренность, снабжающая армию».
По-другому и не могло быть в «обстановке настоящей рабской несвободы», – говорил Пришвин и показывал в своих заметках, что происходило в России накануне и в годы войны. Поражение стало закономерным итогом всего этого, – «так нам и надо», писал он, – однако затем случилась революция, сопровождаемая насилием, кровью, нуждой и голодом. Это тоже стало темой его статей и очерков, которые относятся к лучшим произведениям о послевоенной России.
Михаил Михайлович Пришвин
Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой
© Пришвин М.М., правообладатели
© ООО «Издательство Родина», 2023
Россия перед войной
Русский человек
Перед праздником вагоны были переполнены, и нас из второго класса перевели в первый. Тут в купе сидел один только пассажир, господин очень нездорового вида.
– Куда едете? – спросил его купец из второго класса.
Господин ответил неохотно. Но купец, очень добродушный с виду, не смущаясь этим, всех переспросил. Все ехали в N.
– Где же вы там хотите остановиться? – допрашивал нас купец.
Господин первого класса назвал «Петербургскую гостиницу».
– Сохрани вас бог! – воскликнул купец. – «Петербургская» – плохая гостиница, первое неудобство, конечно, клозет на дворе…
– Как! – изумился нездоровый господин. – Мне гостиницу рекомендовал X. как лучшую.
– X., хромой? – спросил купец.
– Вот уж не знаю, – ответил господин, – он мне писал, а так я его не знаю.
– Он хромой, – сказал купец, – ему ходить трудно, вот он вам и рекомендовал гостиницу поближе к своему дому, чтобы к вам почаще ходить. Плохая гостиница; первое неудобство я назвал, второе – насекомые, третье – прислуживает пьяный мужик.
Купец, загибая пальцы, перечислил все неудобства «Петербургской гостиницы». Пассажиры были в ужасе.
– Куда же, куда же нам деться? – спрашивали купца.
– Остановитесь в «Московской», – ответил он, – там очень хорошо.
И все благодарили купца, как благодетеля.
– Здорово я их! – сказал купец мне, когда нас с ним опять перевели во второй класс. – Здорово, ведь хозяин-то «Московской гостиницы» – я!
И закатился добродушнейшим смехом русский человек, хохотал до слез, меня заразил смехом.
– А вы коровьим маслом торгуете? – спросил он, успокоившись.
Долго допрашивал меня купец и наконец добился своего, узнал, чем я занимаюсь.
– Пишете, – одобрил он, – это правильная точка.
– Какой вы партии? – спросил я спутника.
– Партии я, конечно, черносотенной, – ответил он, – а в душе и по совести – трудовик…
И тут же, по русскому обыкновению, рассказал всю свою жизнь, как доказательство того, что он – трудовик. И правда, передо мной прошла трудовая жизнь. Мыл рюмочки у «Яра» – вот начало карьеры. И через пятьдесят лет – собственный трехэтажный каменный дом, «Московская гостиница» в N.
Вся жизнь как лишение, как подчинение себя каким-то мудрым правилам, найденным тут по пути, в самом процессе жизни. Приходилось даже отказывать себе в любви к дочери.
– Жена может любить ее, – рассказывал отец, – а мне нельзя: бояться не будет.
Так описывал купец свою жизнь как подвиг, в результате которого – каменный дом. Поезд приближался к монастырю, где раньше жил святой человек. Я заговорил о подвижнике. Купцу не хотелось начинать об этом. Я настаивал.
– Не верю я им, – сказал наконец мой спутник, – я верю только богу и умному человеку, – и решительно отклонил разговор о религии.
«Тоже аскет!» – приходили мне в голову отрывки из современных рассуждений о мещанстве как о результате церковного воспитания народа. И так ясно было теперь, что этот человек произошел не от церкви, не от интеллигенции, а прямо от земли, что передо мной – истинно русский, крепкий земле человек.
Мы говорили о земстве.
– Народники! – ядовито сказал купец. – Мы за народ, выбирайте нас, говорят, поют на все лады. А народ…
Купец вдруг надулся от смеха, залился на высочайшую ноту, не удержался на ней и, весь багровый, как-то пфыркнул губами и щеками.
– А народ, – хотел сказать что-то купец, но опять залился на ту же высокую ноту и опять пфыркнул. – Народ им верит, – сказал он наконец, – знаете наш народ. А они-то, они-то разливаются! Конечно, люди образованные, им и карты в руки. Народники!
Купец мой вдруг совсем преобразился. И как далеко было теперь то его добродушие, с которым он зазывал пассажиров первого класса в свою «Московскую гостиницу». Он теперь говорил ядовито одно:
– Народники!
– Кто они? – спросил я.
– Все, – ответил купец, – теперь и графы, дворяне, – все за народ. Да хотя возьмите Некрасова, на что уж народник был?
– Поэт Некрасов? – спросил я.
– Стихотворец, – ответил купец, – сочинял стихи о народе. А в душе?
– И в душе Некрасов любил народ, – заступился я.
– А в душе у него реакция, – ответил купец. – На словах они все народники, а в душе у всех реакция.
– И граф Толстой? – спросил я.