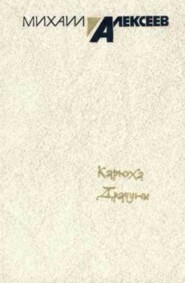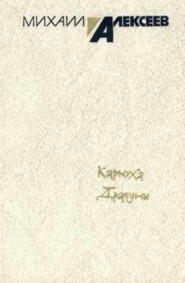По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ивушка неплакучая
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ивушка неплакучая
Михаил Николаевич Алексеев
Волжский роман
Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая», удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах.
Михаил Николаевич Алексеев
Ивушка неплакучая
© Алексеев М.Н., наследники, 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Книга первая
Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?
Иль частым дождичком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?
Из русской народной песни
Глава 1
У железнодорожной кассы столпотворение. Студенты – по большей части первокурсники – торопились домой. Им, от дня своего рождения не покидавшим прежде своих раскиданных по степям сел, деревень и хуторов, остаться бы в городе да поглядеть на первомайские празднества, а еще лучше – самим пройти в колонне веселых демонстрантов да во всю силу легких спеть только что разученную и тотчас же полюбившуюся песню про страну, в которой так много лесов, полей и рек, в которой так вольно дышится и которую все любят, как невесту, и берегут, как ласковую мать. Нет же! Домой, и только домой! Можно еще как-то понять Гришу Угрюмова: в Завидове его ждут отец, мать, сестры, братишка, и все души в нем не чают. А куда б спешить Сереге, Гришиному дружку? Дома у него никого нету: мать и отец померли в тридцать третьем году, старшие братья и сестра разлетелись кто куда, и, где они теперь, Серега не знал. Вся родня у него – тетка Авдотья, но и она сейчас не в Завидове, а в далеком большом городе, укатила на все лето к сыну Авдею погостить. Совсем недавно прислала племяннику костюм – пиджак и штаны из одного материала, темно-синего, в елочку. Досталась же ей эта покупка! Позже, из рассказов Авдея, Серега узнал, что тетка Авдотья в поисках костюма исходила и изъездила на трамваях весь город, прощупала своими строгими и недоверчивыми глазами все прилавки, пока не нашла того, чего хотела. Однако не сразу полезла за пазуху, чтобы достать заветный узелок с деньгами, а уж только после того, как продавец чуть ли не под присягой уверил ее, что дешевле этой пиджачной пары не отыщется не то что в ихнем городе, но и во всем белом свете.
Облачившись в теткин подарок, Серега, к немалому своему удивлению, обнаружил, что выглядит наряднее всех. Одна беда: опоздала тетка Авдотья, прежде ее посылки нежданно-негаданно обрушилась на Серегу любовь. Ходил какую уж неделю в сладком чаду. Превозмогая врожденную стеснительность, искал всякую минуту, чтобы встретиться с ее взглядом и прочесть в нем ответное чувство, но, кроме откровенных и жестоких в своей откровенности насмешинок, ничего в нем не прочел, потому как полюбить хлопца с двумя выразительнейшими заплатами на штанах конечно же немыслимо. Были бы те заплатки поменьше размером и в каких-нибудь других местах, а не на самом неподходящем, может, и было бы все по-иному.
Серега делал героические усилия, чтобы его старые деревенские штаны походили на городские брюки: с вечера, перед тем как лечь спать, укладывал их, тщательно расправив, под жесткий и тяжелый, как надгробная плита, студенческий матрас в надежде, что к утру образуются желанные складки; рубаху носил навыпуск и без пояса, чтобы прикрыть ненавистные заплатки, но чуть наклонился или ветер лизнул сзади, снизу вверх, – они все одно нахально выглядывали… Вскоре к этим двум прибавились еще две – на коленках. И Серега был уничтожен окончательно. Кто ж полюбит такого? На пугало огородное только и сгодишься. Из всех личных врагов, какие так или иначе встречались потом в жизни Сереги, наилютейшими были те заплатки, ибо они украли у него самое дорогое, что когда-либо бывает у человека, – первую любовь.
Пока тетка Авдотья ходила по магазинам да высматривала костюм, пока готовила посылку, пока размышляла, в какую цену ее определить, чтобы и не заплатить слишком дорого за пересылку и чтобы, затеряйся добро в пути, не понести убытку; пока, наконец, двигалась эта посылка малой скоростью, время не стояло на месте и делало свое дело. Для Сереги – определенно недоброе. Лена – так звали ту девчонку – полюбила Семена Мищенко, большеголового стриженого увальня, у которого были хороши разве что глаза, темные, с длинными, как у девчат, ресницами, да белоснежная полотняная сорочка с вышивкой. А штаны – тоже старые, обшмыганные, правда, без заплаток. И Лена с Семеном были счастливы. Когда Серега узнал о том, белый свет стал не мил. И захотелось бежать – не куда глаза глядят, а в родное Завидово, вместе с Гришей Угрюмовым, с ним полегче, чай, будет.
Приятели знали, что касса откроется утром, но прибежали к вокзалу с вечера. Полагали, что окажутся первыми. Не обремененные опытом, они не вспомнили вовремя, что другие ребята могли явиться к окошечку намного раньше Сереги и Гриши. По этой причине они оказались в хвосте длиннющей очереди за билетами. Ошарашенные столь неожиданным и не радостным открытием, друзья какое-то время растерянно молчали, переглядывались, а придя в себя, начали оценивать положение, в котором очутились. Сперва выяснили, какое число людей перед ними в очереди (оно оказалось не таким уж устрашающим), потом узнали, какова вместимость каждого вагона и сколько их в поезде. Подсчетами остались довольны, успокоились и стали ревностно оберегать свое место в очереди. Дежурили посменно: поспит немножко на лавке один, потом другой. Так дождались утра.
Касса открылась с опозданием на полчаса. Гриша и Серега не знали, что кое для кого она отверзлась несколькими часами раньше, а знай они об этом, не стояли бы попусту. Вчерашние подсчеты были тоже ни к чему – доморощенная их бухгалтерия не учитывала то, что всякий, кто стоял впереди них, мог взять один билет, а мог сразу и четыре.
Нехорошая догадка пришла к Сереге и Грише лишь тогда, когда они увидели, что все еще стоят на месте, не продвинулись к цели ни на вершок, в то время когда мимо них один за другим пробегали к выходу красные, как вареные раки, счастливые обладатели билетов. В конце концов случилось то, что и должно было случиться. Перед каким-то студенческим носом с повисшей на нем капелькой пота с сердитым хлопком закрылась дверца кассы. Малый опешил на миг, затем машинально забарабанил в дверцу, заорал:
– Безобразие!
Дверца открылась вновь, но только для того и ровно настолько, чтобы оттуда успели вылететь ответные слова:
– Чего орешь? Ишь сопли-то распустил! Сказала, все билеты проданы! Уматывайте, пока Федосея Михалыча не позвала!
Последние слова похоронным звоном прозвучали для всех ожидающих.
Сидящая за окошечком тетка знала, кем припугнуть ребят. Милиционер Федосей Михайлович своей свирепостью был хорошо известен всем горожанам, студентам же в особенности. Он охотился за ними в городском Доме культуры, в кинотеатре, в парке, в столовой, в железнодорожном буфете, в крытом рынке, в вагонах – повсюду, куда те могли проникнуть с известной целью, не имея в кармане ни копейки.
– Пошли, ребята! – с нарочитой бодростью предложил пострадавший. – Не хватало нам еще Федосея!
Студенческая лава хлынула на улицу. Серега и Гриша задержались в зале. Теперь они были одни и стояли возле окошка, не мигаючи глядя на него: вдруг откроется, вдруг кассирша сообщит, что случайно два билета остались, вот возьмите, и таким образом их выдержка будет вознаграждена.
Чудес, однако, действительно не бывает. Дверца не раскрылась, и не было похоже, что такое случится с нею в ближайшее время. До отхода поезда оставалось пять минут. Об этом сообщил ржавый репродуктор своим хриплым, вроде бы тоже проржавленным голосом.
Серега и Гриша, не сговариваясь, выскочили на перрон. У них решительно не было никаких надежд, и все-таки выскочили. Вдоль вагонов важный и несокрушимо бескомпромиссный вышагивал Федосей Михайлович. Студенты-неудачники неприязненно посматривали на него. Относительно прошлого этого человека у них не было ни малейшего сомнения: ясно, при старом режиме Федосей Михайлович был околоточным, и, наверное, в этом же городе. Рассчитывать на то, что он утратит хотя бы на миг бдительность и даст ребятам возможность проскользнуть мимо и нырнуть в вагон, не приходилось. Такое могло случиться с любым, но только не с Федосеем Михайловичем.
Паровоз между тем запыхтел, засвистел, загудел так же хрипло, как и торчавший над перроном репродуктор, и, дернув вагоны раз и два, медленно поволок их от станции. Перед Серегиными и Гришиными глазами поплыли улыбающиеся рожи знакомых и незнакомых студентов.
– Пошли пешком, – тихо и осторожно предложил Гриша.
– Пошли! – живо согласился Серега, радуясь тому, что и сам сейчас думал о том же, – значит, решение, которое они принимают, не такое уж безумное.
От города до их Завидова около семидесяти верст, если идти напрямую. А они избрали путь по железной дороге, по шпалам – так, рассудили, не заблудимся, доберемся до Лысых Гор, сойдем с полотна, свернем влево, подымемся на гору, а там, полями, через Липняги, Дубовое, Березово – прямо в Завидово. К следующему утру, глядишь, будем дома.
И они пошли, влекомые силою, которой нету на свете равных, той самой, что гонит к родным пределам из дальних-предальних краев, из-за гор высоких, из-за морей бескрайних несметные стаи птиц, а из бесконечных странствий – отъявленных бродяг и блудных сыновей.
Вчера еще не оставлявшие Завидова ни на один день, Серега и Гриша и не подозревали о существовании этой силы. Да и сейчас думали не о ней, а лишь о том, как бы поскорее добраться домой, поесть с дороги (Серега пойдет к Угрюмовым, там, поди, покормят), отдохнуть с часик, а потом – в лес, где теперь синими звездами мерцают подснежники, где вот-вот взовьются белые и душистые фонтаны черемухи, где в густом кустарнике темнеют сорочьи гнезда, а сами сороки подстерегают на чьем-либо подворье неосторожно оброненное курицей яйцо, чтобы тут же выпить его; в лес, в лес, где вскорости запоют соловьи… А на реке дядька Артем по прозвищу Апрель; сейчас он непременно на бережку, караулит от Тишки и Пишки свои рыбачьи сети; послушает-послушает он лягушек и скажет многозначительно: «Орут, окаянный их дери, слушать аж противно, а ведь они поют. И не просто – про любовь поют. Вот ведь какое дело!» Он не прибавит ничего более, полагая это излишним. Серега и Гриша тихо присядут рядом с Апрелем и будут тоже слушать. Хорошо!
Из лесу они пойдут в поля, потому как из шестнадцати своих лет половину провели в степи, нередко оставались там с ночевкой, слушали перепелов, доглядывали за лошадьми, считали крупные и яркие ночные звезды и пели, пугая темноту, «Взвейтесь кострами». Были у них дела в поле и посерьезнее. В тридцать третьем году в Завидове из пионеров организовали отряд и назвали его легкой кавалерией по охране урожая. Серега и Гриша, которые были в отряде вроде командира и комиссара, и теперь не знали, почему – кавалерия, ежели в колхозе-то оставались каких-нибудь две-три клячи, а в их отряде не было ни одной лошади. Ребята ведь только и делали, что сидели день-деньской на своих наблюдательных вышках и следили, чтобы «кулацкие парикмахеры» не обстригали в мешки созревающих колосьев ржи или пшеницы. Однажды Гриша и Серега увидали за таким занятием Екатерину Ступкину, крупную и всю какую-то круглую, похожую на дыню рябоватую бабу, беднее которой на селе и не было никого. Шума не стали подымать, взяли грех на свою душу – отпустили Ступкину. Ну какой она «парикмахер», да еще кулацкий, ежели в избе кусать нечего ни ей, ни ее ребятишкам, из коих половину она уже успела похоронить прошлым летом. Правда, не у нее одной случилось такое горе. На селе прошел слух, что Стешка Луговая будто бы сознательно уморила голодом своих близнецов-сыновей – все в том же тридцать третьем, унесшем так много человеческих жизней и не удостоившемся хотя бы простого упоминания ни в одном из учебников новейшей истории.
Не вспомнили о страшном том годе и Серега с Гришей, шагая по шпалам, как по лестнице, брошенной плашмя на землю. Идти было очень неудобно. Если наступать на каждую шпалу, то приходится семенить, а через одну – шаг получается слишком широк, аж штаны трещат, и быстро устаешь. Так и шли, сбиваясь, спотыкаясь, и все же, как им казалось, достаточно быстро. Но вот остановились, чтобы передохнуть. Оглянулись, а городок – вот он, рядом, под горой. Шли более часа, а ушли, думается, всего на версту – дорога-то петляет.
О тридцать третьем подумали на второй день, когда спускались в Завидово и когда избитые в кровь ноги едва волочились, а голова кружилась от жажды и голода. Возле многих изб и теперь еще можно было заметить горки ракушек, перламутрово вспыхивающих под солнцем, – пять лет назад, вылавливая их в реке и в лесных озерах, люди пытались спасти себя от смерти. Многие избы стояли с заколоченными окнами, многие были порушены. На месте бывших дворов взметнулась цыганка – так в Завидове звали лебеду какой-то особой породы, с красноватыми листьями. Всякий раз она являлась на свет божий как вернейший признак запустения, его неизменный, постоянный спутник.
С горы ребята увидели, как от пруда, что посередь селения, течет жиденький ручеек коровьего и овечьего стада. За ним, помахивая самодельным кнутом, поспешал мальчуган, белые волосы клубились над его головой, излучали сияние, похожее на нимб. Однако к лику святых этого отрока-пастушонка едва ли можно было причислить. В свои какие-нибудь восемь лет он успел запастись полным набором грубых мужицких словосочетаний и теперь щедро награждал ими непослушное разноплеменное стадо. В довершение всего, как бы вспомнив о чем-то таком, чего никак уж нельзя перенести на иной час, прямо на глазах у проходящих мимо девчат принялся сосредоточенно и деловито править невеликую нужду. Стадо сейчас же замедлило движение, как бы дожидаясь своего повелителя. Некоторые коровы остановились вовсе. Козы, эти Богом сотворенные и им же проклятые создания, только и ждали такого момента – немедленно устремились в сторону, не имея никакой другой очевидной цели, а подчиняясь единственно своей вздорной козлиной привычке лезть туда, куда не полагается. Козьего чуткого слуха не миновал, однако, звонкий и сердитый глас пастуха, подкрепленный многообещающим хлопком кнута. Их бородатый вожак тотчас же остановился, поднял голову, скосил в сторону заканчивавшего свое дело пастушонка бесьи глаза, затем рысью помчался обратно в стадо, все остальное козье отродье поспешило за ним.
– Павлик, ты что так материшься? – удивленно спросил Гриша, когда приблизился и узнал в пастушонке своего младшего братишку. – Ты хочешь, чтобы я тебе уши пощупал, а? Кто тебя заставил пасти? Сам, наверно, напросился, да?
Поскольку вопросов было задано много и требовалось еще решить, на какой из них отвечать в первую очередь, Павлик некоторое время молчал; встреча со старшим братом была для него полнейшей неожиданностью. Будь он парнишкой не деревенским и не располагай такой большой властью, как сейчас, Павлик, вероятно, бросил бы все и кинулся Грише на шею. Но он родился в Завидове, к тому же в семье Угрюмовых, где телячьи нежности не в чести, где больше ценятся характеры грубовато-суровые, сдерживаемые до известной поры какой-то внутренней железной крепости и упругости пружиной.
– Что же ты набычился? – спросил Гриша, обнимая брата за узкие и острые плечи. – Дома-то все здоровы?
– Там свадьба, – глухо сообщил Павлик и свирепо закричал: – Куда те, так твою мать, черт понес! Назад, вислобрюхая! Кишки выпущу!
Гриша не успел вознаградить брата вполне заслуженной оплеухой, как тот оказался уже возле ушедшего вперед стада.
– Что еще за свадьба? Чего он плетет? – вслух размышлял Гриша, а лицо уже начало буреть, наливаться хорошо знакомой всем завидовцам, в том числе и Сереге, угрюмовской свирепостью. – Сколько сейчас времени, не знаешь? – зачем-то спросил он у Сереги.
Часов у них, конечно, не было. Но по стаду, идущему со стойла в степь, поняли, что полдень. Значит, поход их продолжался более суток. Первое мая на исходе. Чтобы поспеть к занятиям, завтра надо отправляться в обратный путь. А ноги все в кровавых ссадинах – шли ведь босыми, берегли ботинки, случалось наступать и на острый камень, и на костыль, и на рельс; в голове гуд какой-то, в ушах свист, губы запеклись, потрескались.
А в селе на праздник и не похоже. Разве что старый, полинявший, обтрепанный ветрами красный флаг сменили на новый. И все.
– Пойдем, Сергей, к нам.
Михаил Николаевич Алексеев
Волжский роман
Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая», удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах.
Михаил Николаевич Алексеев
Ивушка неплакучая
© Алексеев М.Н., наследники, 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Книга первая
Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?
Иль частым дождичком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?
Из русской народной песни
Глава 1
У железнодорожной кассы столпотворение. Студенты – по большей части первокурсники – торопились домой. Им, от дня своего рождения не покидавшим прежде своих раскиданных по степям сел, деревень и хуторов, остаться бы в городе да поглядеть на первомайские празднества, а еще лучше – самим пройти в колонне веселых демонстрантов да во всю силу легких спеть только что разученную и тотчас же полюбившуюся песню про страну, в которой так много лесов, полей и рек, в которой так вольно дышится и которую все любят, как невесту, и берегут, как ласковую мать. Нет же! Домой, и только домой! Можно еще как-то понять Гришу Угрюмова: в Завидове его ждут отец, мать, сестры, братишка, и все души в нем не чают. А куда б спешить Сереге, Гришиному дружку? Дома у него никого нету: мать и отец померли в тридцать третьем году, старшие братья и сестра разлетелись кто куда, и, где они теперь, Серега не знал. Вся родня у него – тетка Авдотья, но и она сейчас не в Завидове, а в далеком большом городе, укатила на все лето к сыну Авдею погостить. Совсем недавно прислала племяннику костюм – пиджак и штаны из одного материала, темно-синего, в елочку. Досталась же ей эта покупка! Позже, из рассказов Авдея, Серега узнал, что тетка Авдотья в поисках костюма исходила и изъездила на трамваях весь город, прощупала своими строгими и недоверчивыми глазами все прилавки, пока не нашла того, чего хотела. Однако не сразу полезла за пазуху, чтобы достать заветный узелок с деньгами, а уж только после того, как продавец чуть ли не под присягой уверил ее, что дешевле этой пиджачной пары не отыщется не то что в ихнем городе, но и во всем белом свете.
Облачившись в теткин подарок, Серега, к немалому своему удивлению, обнаружил, что выглядит наряднее всех. Одна беда: опоздала тетка Авдотья, прежде ее посылки нежданно-негаданно обрушилась на Серегу любовь. Ходил какую уж неделю в сладком чаду. Превозмогая врожденную стеснительность, искал всякую минуту, чтобы встретиться с ее взглядом и прочесть в нем ответное чувство, но, кроме откровенных и жестоких в своей откровенности насмешинок, ничего в нем не прочел, потому как полюбить хлопца с двумя выразительнейшими заплатами на штанах конечно же немыслимо. Были бы те заплатки поменьше размером и в каких-нибудь других местах, а не на самом неподходящем, может, и было бы все по-иному.
Серега делал героические усилия, чтобы его старые деревенские штаны походили на городские брюки: с вечера, перед тем как лечь спать, укладывал их, тщательно расправив, под жесткий и тяжелый, как надгробная плита, студенческий матрас в надежде, что к утру образуются желанные складки; рубаху носил навыпуск и без пояса, чтобы прикрыть ненавистные заплатки, но чуть наклонился или ветер лизнул сзади, снизу вверх, – они все одно нахально выглядывали… Вскоре к этим двум прибавились еще две – на коленках. И Серега был уничтожен окончательно. Кто ж полюбит такого? На пугало огородное только и сгодишься. Из всех личных врагов, какие так или иначе встречались потом в жизни Сереги, наилютейшими были те заплатки, ибо они украли у него самое дорогое, что когда-либо бывает у человека, – первую любовь.
Пока тетка Авдотья ходила по магазинам да высматривала костюм, пока готовила посылку, пока размышляла, в какую цену ее определить, чтобы и не заплатить слишком дорого за пересылку и чтобы, затеряйся добро в пути, не понести убытку; пока, наконец, двигалась эта посылка малой скоростью, время не стояло на месте и делало свое дело. Для Сереги – определенно недоброе. Лена – так звали ту девчонку – полюбила Семена Мищенко, большеголового стриженого увальня, у которого были хороши разве что глаза, темные, с длинными, как у девчат, ресницами, да белоснежная полотняная сорочка с вышивкой. А штаны – тоже старые, обшмыганные, правда, без заплаток. И Лена с Семеном были счастливы. Когда Серега узнал о том, белый свет стал не мил. И захотелось бежать – не куда глаза глядят, а в родное Завидово, вместе с Гришей Угрюмовым, с ним полегче, чай, будет.
Приятели знали, что касса откроется утром, но прибежали к вокзалу с вечера. Полагали, что окажутся первыми. Не обремененные опытом, они не вспомнили вовремя, что другие ребята могли явиться к окошечку намного раньше Сереги и Гриши. По этой причине они оказались в хвосте длиннющей очереди за билетами. Ошарашенные столь неожиданным и не радостным открытием, друзья какое-то время растерянно молчали, переглядывались, а придя в себя, начали оценивать положение, в котором очутились. Сперва выяснили, какое число людей перед ними в очереди (оно оказалось не таким уж устрашающим), потом узнали, какова вместимость каждого вагона и сколько их в поезде. Подсчетами остались довольны, успокоились и стали ревностно оберегать свое место в очереди. Дежурили посменно: поспит немножко на лавке один, потом другой. Так дождались утра.
Касса открылась с опозданием на полчаса. Гриша и Серега не знали, что кое для кого она отверзлась несколькими часами раньше, а знай они об этом, не стояли бы попусту. Вчерашние подсчеты были тоже ни к чему – доморощенная их бухгалтерия не учитывала то, что всякий, кто стоял впереди них, мог взять один билет, а мог сразу и четыре.
Нехорошая догадка пришла к Сереге и Грише лишь тогда, когда они увидели, что все еще стоят на месте, не продвинулись к цели ни на вершок, в то время когда мимо них один за другим пробегали к выходу красные, как вареные раки, счастливые обладатели билетов. В конце концов случилось то, что и должно было случиться. Перед каким-то студенческим носом с повисшей на нем капелькой пота с сердитым хлопком закрылась дверца кассы. Малый опешил на миг, затем машинально забарабанил в дверцу, заорал:
– Безобразие!
Дверца открылась вновь, но только для того и ровно настолько, чтобы оттуда успели вылететь ответные слова:
– Чего орешь? Ишь сопли-то распустил! Сказала, все билеты проданы! Уматывайте, пока Федосея Михалыча не позвала!
Последние слова похоронным звоном прозвучали для всех ожидающих.
Сидящая за окошечком тетка знала, кем припугнуть ребят. Милиционер Федосей Михайлович своей свирепостью был хорошо известен всем горожанам, студентам же в особенности. Он охотился за ними в городском Доме культуры, в кинотеатре, в парке, в столовой, в железнодорожном буфете, в крытом рынке, в вагонах – повсюду, куда те могли проникнуть с известной целью, не имея в кармане ни копейки.
– Пошли, ребята! – с нарочитой бодростью предложил пострадавший. – Не хватало нам еще Федосея!
Студенческая лава хлынула на улицу. Серега и Гриша задержались в зале. Теперь они были одни и стояли возле окошка, не мигаючи глядя на него: вдруг откроется, вдруг кассирша сообщит, что случайно два билета остались, вот возьмите, и таким образом их выдержка будет вознаграждена.
Чудес, однако, действительно не бывает. Дверца не раскрылась, и не было похоже, что такое случится с нею в ближайшее время. До отхода поезда оставалось пять минут. Об этом сообщил ржавый репродуктор своим хриплым, вроде бы тоже проржавленным голосом.
Серега и Гриша, не сговариваясь, выскочили на перрон. У них решительно не было никаких надежд, и все-таки выскочили. Вдоль вагонов важный и несокрушимо бескомпромиссный вышагивал Федосей Михайлович. Студенты-неудачники неприязненно посматривали на него. Относительно прошлого этого человека у них не было ни малейшего сомнения: ясно, при старом режиме Федосей Михайлович был околоточным, и, наверное, в этом же городе. Рассчитывать на то, что он утратит хотя бы на миг бдительность и даст ребятам возможность проскользнуть мимо и нырнуть в вагон, не приходилось. Такое могло случиться с любым, но только не с Федосеем Михайловичем.
Паровоз между тем запыхтел, засвистел, загудел так же хрипло, как и торчавший над перроном репродуктор, и, дернув вагоны раз и два, медленно поволок их от станции. Перед Серегиными и Гришиными глазами поплыли улыбающиеся рожи знакомых и незнакомых студентов.
– Пошли пешком, – тихо и осторожно предложил Гриша.
– Пошли! – живо согласился Серега, радуясь тому, что и сам сейчас думал о том же, – значит, решение, которое они принимают, не такое уж безумное.
От города до их Завидова около семидесяти верст, если идти напрямую. А они избрали путь по железной дороге, по шпалам – так, рассудили, не заблудимся, доберемся до Лысых Гор, сойдем с полотна, свернем влево, подымемся на гору, а там, полями, через Липняги, Дубовое, Березово – прямо в Завидово. К следующему утру, глядишь, будем дома.
И они пошли, влекомые силою, которой нету на свете равных, той самой, что гонит к родным пределам из дальних-предальних краев, из-за гор высоких, из-за морей бескрайних несметные стаи птиц, а из бесконечных странствий – отъявленных бродяг и блудных сыновей.
Вчера еще не оставлявшие Завидова ни на один день, Серега и Гриша и не подозревали о существовании этой силы. Да и сейчас думали не о ней, а лишь о том, как бы поскорее добраться домой, поесть с дороги (Серега пойдет к Угрюмовым, там, поди, покормят), отдохнуть с часик, а потом – в лес, где теперь синими звездами мерцают подснежники, где вот-вот взовьются белые и душистые фонтаны черемухи, где в густом кустарнике темнеют сорочьи гнезда, а сами сороки подстерегают на чьем-либо подворье неосторожно оброненное курицей яйцо, чтобы тут же выпить его; в лес, в лес, где вскорости запоют соловьи… А на реке дядька Артем по прозвищу Апрель; сейчас он непременно на бережку, караулит от Тишки и Пишки свои рыбачьи сети; послушает-послушает он лягушек и скажет многозначительно: «Орут, окаянный их дери, слушать аж противно, а ведь они поют. И не просто – про любовь поют. Вот ведь какое дело!» Он не прибавит ничего более, полагая это излишним. Серега и Гриша тихо присядут рядом с Апрелем и будут тоже слушать. Хорошо!
Из лесу они пойдут в поля, потому как из шестнадцати своих лет половину провели в степи, нередко оставались там с ночевкой, слушали перепелов, доглядывали за лошадьми, считали крупные и яркие ночные звезды и пели, пугая темноту, «Взвейтесь кострами». Были у них дела в поле и посерьезнее. В тридцать третьем году в Завидове из пионеров организовали отряд и назвали его легкой кавалерией по охране урожая. Серега и Гриша, которые были в отряде вроде командира и комиссара, и теперь не знали, почему – кавалерия, ежели в колхозе-то оставались каких-нибудь две-три клячи, а в их отряде не было ни одной лошади. Ребята ведь только и делали, что сидели день-деньской на своих наблюдательных вышках и следили, чтобы «кулацкие парикмахеры» не обстригали в мешки созревающих колосьев ржи или пшеницы. Однажды Гриша и Серега увидали за таким занятием Екатерину Ступкину, крупную и всю какую-то круглую, похожую на дыню рябоватую бабу, беднее которой на селе и не было никого. Шума не стали подымать, взяли грех на свою душу – отпустили Ступкину. Ну какой она «парикмахер», да еще кулацкий, ежели в избе кусать нечего ни ей, ни ее ребятишкам, из коих половину она уже успела похоронить прошлым летом. Правда, не у нее одной случилось такое горе. На селе прошел слух, что Стешка Луговая будто бы сознательно уморила голодом своих близнецов-сыновей – все в том же тридцать третьем, унесшем так много человеческих жизней и не удостоившемся хотя бы простого упоминания ни в одном из учебников новейшей истории.
Не вспомнили о страшном том годе и Серега с Гришей, шагая по шпалам, как по лестнице, брошенной плашмя на землю. Идти было очень неудобно. Если наступать на каждую шпалу, то приходится семенить, а через одну – шаг получается слишком широк, аж штаны трещат, и быстро устаешь. Так и шли, сбиваясь, спотыкаясь, и все же, как им казалось, достаточно быстро. Но вот остановились, чтобы передохнуть. Оглянулись, а городок – вот он, рядом, под горой. Шли более часа, а ушли, думается, всего на версту – дорога-то петляет.
О тридцать третьем подумали на второй день, когда спускались в Завидово и когда избитые в кровь ноги едва волочились, а голова кружилась от жажды и голода. Возле многих изб и теперь еще можно было заметить горки ракушек, перламутрово вспыхивающих под солнцем, – пять лет назад, вылавливая их в реке и в лесных озерах, люди пытались спасти себя от смерти. Многие избы стояли с заколоченными окнами, многие были порушены. На месте бывших дворов взметнулась цыганка – так в Завидове звали лебеду какой-то особой породы, с красноватыми листьями. Всякий раз она являлась на свет божий как вернейший признак запустения, его неизменный, постоянный спутник.
С горы ребята увидели, как от пруда, что посередь селения, течет жиденький ручеек коровьего и овечьего стада. За ним, помахивая самодельным кнутом, поспешал мальчуган, белые волосы клубились над его головой, излучали сияние, похожее на нимб. Однако к лику святых этого отрока-пастушонка едва ли можно было причислить. В свои какие-нибудь восемь лет он успел запастись полным набором грубых мужицких словосочетаний и теперь щедро награждал ими непослушное разноплеменное стадо. В довершение всего, как бы вспомнив о чем-то таком, чего никак уж нельзя перенести на иной час, прямо на глазах у проходящих мимо девчат принялся сосредоточенно и деловито править невеликую нужду. Стадо сейчас же замедлило движение, как бы дожидаясь своего повелителя. Некоторые коровы остановились вовсе. Козы, эти Богом сотворенные и им же проклятые создания, только и ждали такого момента – немедленно устремились в сторону, не имея никакой другой очевидной цели, а подчиняясь единственно своей вздорной козлиной привычке лезть туда, куда не полагается. Козьего чуткого слуха не миновал, однако, звонкий и сердитый глас пастуха, подкрепленный многообещающим хлопком кнута. Их бородатый вожак тотчас же остановился, поднял голову, скосил в сторону заканчивавшего свое дело пастушонка бесьи глаза, затем рысью помчался обратно в стадо, все остальное козье отродье поспешило за ним.
– Павлик, ты что так материшься? – удивленно спросил Гриша, когда приблизился и узнал в пастушонке своего младшего братишку. – Ты хочешь, чтобы я тебе уши пощупал, а? Кто тебя заставил пасти? Сам, наверно, напросился, да?
Поскольку вопросов было задано много и требовалось еще решить, на какой из них отвечать в первую очередь, Павлик некоторое время молчал; встреча со старшим братом была для него полнейшей неожиданностью. Будь он парнишкой не деревенским и не располагай такой большой властью, как сейчас, Павлик, вероятно, бросил бы все и кинулся Грише на шею. Но он родился в Завидове, к тому же в семье Угрюмовых, где телячьи нежности не в чести, где больше ценятся характеры грубовато-суровые, сдерживаемые до известной поры какой-то внутренней железной крепости и упругости пружиной.
– Что же ты набычился? – спросил Гриша, обнимая брата за узкие и острые плечи. – Дома-то все здоровы?
– Там свадьба, – глухо сообщил Павлик и свирепо закричал: – Куда те, так твою мать, черт понес! Назад, вислобрюхая! Кишки выпущу!
Гриша не успел вознаградить брата вполне заслуженной оплеухой, как тот оказался уже возле ушедшего вперед стада.
– Что еще за свадьба? Чего он плетет? – вслух размышлял Гриша, а лицо уже начало буреть, наливаться хорошо знакомой всем завидовцам, в том числе и Сереге, угрюмовской свирепостью. – Сколько сейчас времени, не знаешь? – зачем-то спросил он у Сереги.
Часов у них, конечно, не было. Но по стаду, идущему со стойла в степь, поняли, что полдень. Значит, поход их продолжался более суток. Первое мая на исходе. Чтобы поспеть к занятиям, завтра надо отправляться в обратный путь. А ноги все в кровавых ссадинах – шли ведь босыми, берегли ботинки, случалось наступать и на острый камень, и на костыль, и на рельс; в голове гуд какой-то, в ушах свист, губы запеклись, потрескались.
А в селе на праздник и не похоже. Разве что старый, полинявший, обтрепанный ветрами красный флаг сменили на новый. И все.
– Пойдем, Сергей, к нам.