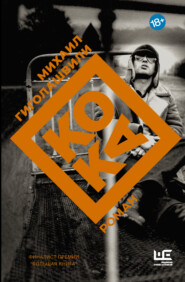По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайный год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пытался что-то подсчитывать в уме, но всё путалось, рассыпалось, в мозгу оставалась только клейкая печаль и кровяная ярость.
И много злости на себя. Не поезжай он незнамо куда – и не было бы такого! Не реши он бежать, как пёс блохастый от стрелецкого сапога, – и не печаловался бы ныне! От себя не убежишь! Конечно, и бо?льшего лишался и не плакал, но уж очень обидно, и стыдно, и муторно, когда с тобой такое случается! И на черепе налилась новая шишка рядом с той, что уже была. И ухо его помнит удар грубой мужицкой лапы, чего с ним почти никогда не случалось – ну, может, в детстве, в драках, или Мисаил Сукин за нерадивость подзатыльник сгоряча влепит, и всё, но чтобы так – крестом по башке, кулаком в ухо, как червя смердящего, словно он фетюк, фофан, фуфлыжка балчужный?!. Истинно: у страха глаза велики – а ничего не видят!..
От еды, вина, волнения и ярости в нём, как всегда, начала просыпаться похоть, до этого спавшая под опийным зельем. Стала играть в чреслах, шевелиться в паху, головку поднимать, как змей тот первый, что праматерь Евву соблазном из Божьего рая вывел и в свой грешный ад уволок. Но куда с такой шанкрой, что гноеточит и воняет, как скорбут[75 - Цинга.]? Бабы ведь тоже люди, хоть и другого помёта!
На зов явился Бомелий с чехлом, из кишки сделанным, чтобы на елдан натягивать. Да узок оказался – еле-еле на плюшку влез и язву чуть не сорвал.
– Ты что, на свой огрызок мерял? Из каких кишок делал? Козьих? Мал. Сделай поболее, из свиных или коровьих, – впору будет! – приказал, а сам решил, пока суть да дело, как-нибудь с девкой так обойтись, чтоб ей внутрь болезнь не перекачать (к жене идти нельзя, её горничных девок тоже избегать надо, чтобы не растрезвонили о болезни).
Ещё раньше выведал у Прошки, кому тот даёт стирать бельё, и не поленился высмотреть эту молодую вдову Еленку: ничего, бела и дебела, и губы полные, и перси грудастые, как он любит.
Закрывши пол-лица шапкой, накинув мужицкий тулуп, отправился по чёрной лестнице во двор, а там незаметно уместился недалеко от портомойни.
Ждать пришлось недолго – на третье открывание из двери появилась распаренная Еленка с тазом, в накинутой шубейке. Окликнул её – она замерла спиной. Подошёл к ней вплотную сзади, ощутил терпкий запах чистого тела. Ноздри раздулись сами собой, спросил в спину:
– Кто такова? Чьих?
– Еленка, кузнеца Федота дочь… – не оборачиваясь, ответила та.
– Стрельца Семёна Микитина вдова, что ли? Вишь, я всех в слободе наперечёт знаю! – Обернул её к себе и, выдернув из рук таз с бельём, откинул его на землю. – А я кто?
Прачка залепетала, краснея и так розовым лицом:
– Государь… Великий князь… Господин… Господарь…
– Нет, дурёха! Я – простой человек! А царь Семион на Москве сидит!
Еленка опешила, не зная, что отвечать, залепетала:
– Как будет угодно, государь…
Втянув мыльный запах, просунул руку под шубейку и пару раз шлёпнул Еленку по бедру, отчего та приятно охнула, всколыхнувшись.
– Любо мне твоё колечко золочёное! А у меня серебряная сваечка наготове! – Порылся в кошеле, вынул московку, протянул ей, понизив голос: – Знаешь пустку[76 - Пустое или строящееся жилье.] у башни? Иди туда! Я следом!
– Как прикажешь! – схватив деньгу и поцеловав руку, смелая бабёнка рванула куда велено, а он, глядя на её ядрёные икры, усмехнулся: «Пойдёшь, куда денешься… И не такие приползали, даже пальцем манить не надо было – взгляда доставало, шевеления одной брови…»
Воровато огляделся. Людей не видно, его приказ – «без дела по крепости не шататься, кто будет замечен – будет наказан» – исполняют, чему и сами рады: кому охота лишний раз глаза государю мозолить?
На всякий случай зашёл за дерево и стал оттуда озираться, волнуясь, как в детстве, когда назначал девке место и время, а сам приходил заранее и стоял, высматривая, нет ли опасности, всё ли спокойно для бесперебойной случки.
Еленка ждала у стены, вопросительно смотрела на него. Передом? Задом? На коленях? На шубейке? На досках под стеной? Но он, притянув её к себе и распахнув тулуп, взял её руку и сунул себе под рясу, под исподнее:
– Ты его похоли, похоли! Не смотри туда! Осторожно, там болячка! Двумя перстами! Сильно не жми! Легче, легче! Титьки вывали, дай потрогать! Вот так… Вот так… Ух они и тугие! Налитые! Так, так! Лепо!
Видя, что Еленка старается, но невольно морщит носик от тухлого запаха из-под рясы, решил побыстрее справиться со своей нуждой, да и долгий застой дал о себе знать – скоро семя выметнулось обильным тягучим плевком.
Запахнул тулуп и, не глядя ей в глаза:
– Видишь, простыл, болею! – Вынул пару монет из кошеля. – Ещё придёшь, когда скажу!
– Мечтать буду! – ответила, запихивая груди в вырез рубахи и пряча туда же деньги. – А от простуды средство знаю – рукой всё снимает! Принесу?
Пусть приносит.
Выйдя первым, отправился к себе. И идти было куда легче, чем прежде.
Прежде чем приедут из Разбойной избы Арапышев с братьями Скуратовыми (Малюта погиб, но оба его брата служат добротно и верно), надо сделать одно важное укромное дело, а именно – отослать письмо сатане. Этому научил его Мисаил Сукин. Это всегда помогало – поможет и теперь.
Когда спросил у Сукина: как это возможно – за спиной у Бога сноситься с сатаной, письма ему посылать? – протоиерей усмехнулся, сказав, что у Бога ни спины, ни ног, ни рук нету, Он всюду и везде, всё знает без ушей и очей, и если попустительствует письмам – значит, не против: «А лишний раз сатану умилостивить не худо будет, ибо он – ангел, даже архангел, звезда, хоть и падшая, а ты – всего лишь человечишко, из праха в прах бредущий! Посему пиши красиво, чтоб слова разборчивы были, не то хлопот не оберёшься: они же, беси, главные начётчики, сутяги, крючкотворы, ошибкосчитальщики, им только дай повод – вовек не отлепятся, приставать станут: ты, дескать, в том письме нашему повелителю, сатане, написал то-то и то-то, теперь изволь исполнять – или душу отдавай взамен! Так беси скажут и будут твоей души домогаться по-всякому, наждак-камнем тереть её, царапать и лапать, пока не сведут тебя с ума или в могилу».
Раньше для отсылки такого письма человечья жизнь нужна была, ну а ныне можно и козлиной обойтись – через зарок не перепрыгнешь! Ничего! Сатана до козлов зело охоч, ещё с того, первого, чёрного, коего жиды камнями в пустыне забили для отпущения своих грехов. Хорошо, как всегда, устроились! Сами грешат, а козёл отвечай! Не так ли и со мной будет на Страшном суде: народ грешил – а я страдай, как тот безвинный козёл?
Само письмо было заготовлено ещё раньше, когда начался холерный мор. Никак руки не доходили, и, видно, сатана разозлился ждать – и на? тебе, устроил грабёж, побои и позор!
Велел Прошке привести смотрителя крепости немца Шлосера, а когда прибудут сыскари из Разбойной избы, то накормить их и пусть ждут, а он по неотложным делам отлучиться должен.
– Куда тебе, государь? Ты болен, лежи! Уже отлучился надысь – что вышло?
Прикрикнул на него:
– Прижукнись, сипак! Я не один. Я с немчином иду, – что немного успокоило слугу: немчин Шлосер был надёжен, разумен и верен, в беде не оставит.
Когда Прошка ушёл, взял из укромного места письмо.
Вот и бумага особая, хрущатая. И чернила красны. И строчки ровны, только подпись поставить осталось.
При писании много бумаги измарать пришлось! То слова были не так поставлены, то слишком смело, то слишком вяло. И как к сатане обращаться? Писать ли с большой буквы? И есть ли у падшей звезды отчество? Не напишешь же: «отпадшему ангелу Деннице Боговичу»?
В конце получилось:
«Сильный князь тьмы и пекла, оставь нас, слабых людишек московских, что мы тебе? Ни кожи, ни рожи от нас, ибо нет у нас ничего для тебя. Забудь нас! Обойди своим оком! Не осеняй своими чёрными крылами! И если надо тебе в пищу кого, то возьми с лица земли всех басурман, сарацин, латинян, мохаммедан, жидов и всяких других нехристей – они будут тебе куда как вкуснее! А в нашей земле оставь нас, невинных и кротких, – от нас тебе проку мало и сытости никакой, а пользы много, ибо не создаём шума и суеты, не беспокоим твой покой и сон, тихо сидим и мирно хлеб свой скудный, на слезах замешанный, едим. А ты бери тех, кто падок и страстен на сребролюбие, пьянство, объедение, скупость, срамословие, любодеяние, плотолюбие, свару, гнев, ярость, печаль, уныние, отчаяние, неправду, изменничество, леность, ослушание, воровство, роптание, прекословие, ложь, клевету, тщеславие, гордость, соблазнение, хуление, – они будут тебе зело вкусны, терпки и поджаристы! А мы всего этого не знаем, не ведаем, не делаем, в мыслях даже не держим, а живём тихо и мирно наши годы, данные нам Тем, Кому и ты подчинён. Посему говорю ещё раз – возьми наше подношение, а нас забудь, брось, оставь, не трожь, чур нас, чур нас, чур нас!»
Размашисто подписался, обозначив своё имя – зачем все титлы писать, когда сатане всё и так известно, его не проведёшь?
Сунул письмо в норковую муфту, перетянул её крепкой шёлковой тесьмой и запихнул в кису, пришитую изнутри любимого длинного, до пола, тулупа, в коем ходил, – уже начались заморозки, а их ни хидагра, ни соли в костях, ни боли в спине не любят. В окно увидел, как Шлосер поспешно ковыляет по лужам к крыльцу, подтягивая подбитую в бою ногу.
В предкельнике Прошка стриг Ониську, надев шурину на голову горшок и особым ножевищем подрезая волосы по ободу горшка. На полу – куча русых волос.
– Вы что, сдурели? Убрать сей миг! – Волос – всяких, и стриженых и резаных, – он очень боялся, зная и от мамки Аграфены, и от баки Аки, что злые духи с обрезками волос могут сделать такое, чего потом не стряхнуть и не отцепить. – Федьки Шиша нет ещё? Роди Биркина тоже? Что за напасть?
– Сам же услал, – ответил Прошка, поспешно запихивая ногой обрезки волос под лавку, за что получил тычок посохом:
– Не так, огуряло, а совсем убрать!
Верный немец, увидев его на крыльце, встал навытяжку:
– Мои касудар, куд-да ходить?