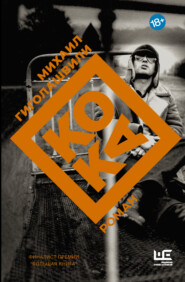По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайный год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Постепенно залубенел в ломкое стекло. Нутро выжгло холодом. И кровь замерзает. В теле – перезвоны морозных ледышек, мелкой стекляди. И красные змейки мельтешат в глазах. И огненные клопы выедают зрачки. А под черепом что-то смутное и слепое переползает одно через другое, как котята в поисках материнского соска.
Начал молиться громко, в полный голос, размазывая слёзы и царапая ногтями голые виски под заячьим треухом.
Скоро уже не мог шевелиться. А когда услышал конский бег, то с безразличным страхом решил, что беси вернулись порешить его.
Вот останавливается телега, вылезают два мужика в собачьих малахаях, меховых шапках и валенках. Подходят, смотрят, полость шевелят:
– Это кой же здеся бздюх притаён? Живой?
В оттянутую полость шепчет:
– Ребятушки, на грани смерти нахожусь! Кобыла ногу сломала, колесо гикнулось… Скорее везите меня, умираю!
– Ишь ты – везите! – Один, обойдя колымагу, приблизился к затихшей лошади и сильно, зло пнул каблуком в морду (та подала голос, шевельнулась). – Кто сам таков?
По этой грубости он понял, что дело плохо, но, поспешно решив, что царя не тронут, признался через силу:
– Это я, ваш государь… Царь… Иоанн Васильевич… Везите!
– Чего? Царь? Государь? Да будет тебе вабить, сыч мохнатый! Ежели ты царь, то мы анпираторы! – начали мужики хохотать, быстро, по-рысьи, ощупывая колымагу взглядами.
Один принялся сдирать с него кожух. Второй, нашарив в колымаге узлы с чем-то звенящим, покопался там, развязал котому, поворошил рукой, побренчал, зачерпнул, заглянул в ладонь, разглядел и, пробормотав растерянно:
– Батюшки-светы! Дёру, Нилушка! – схватил узлы в охапку и потащил их в свою телегу. – Чухаем отсель! Айда! Дёру!
– Счас! Но, тихо, пёс! – крикнул Нилушка, стаскивая с него треух, потом грубой рукой влез за пазуху и сорвал крест с амулетом, а на слабые попытки оттолкнуть огрел кулаком по уху и для верности больно шмякнул сорванным крестом по черепу. – Не рюхай, лярва, не то прирежу!
– Нилушка, шибче! Ноди, ноди! – кричал другой, устраивая в телеге добычу и разбирая поводья. – Дёру, дурень!
– Убивцы! Христопродавцы! – крикнул в бессилии, хватаясь за мокрую от горячей крови голову.
Но мужиков и след простыл – умчались, только скрип колёс, топот и ржание зависли над тёмной дорогой…
«Так-то я порядок навёл – мужичьё сиволапое грабит почём зря под самым носом! Даже треухом поганым не побрезговали, тафейку стянули, выпоротки, тельник[73 - Нательный крест.] матушкин содрали!» – в бессильном гневе думал, прижимая рукой рану на голове и не до конца ещё понимая, что раздет, избит, ограблен, чуть не убит.
Потом стало доходить. Письмо с его печатями! Камни, перстни, самородок! Золотая книга «Апостол»! Зеркальце, гребень! Всё пропало! А если письмо попадёт кому-то в руки, кто читать умеет? О Господи! Вот она, кара!
От звенящей злобы, от звонкой, звякающей в ушах обиды нашёл силы вылезти на дорогу и в беспамятстве двинулся назад в Александровку, то ругаясь в голос, то поминая Бога и свою тяжкую долю на этой земле.
Но идти было всё труднее, посох не помогал, стал вдруг тяжкой обузой, а не опорой, и он ковылял еле-еле, таща посох за собой и кляня себя и свою глупую трусость, в голос браня того ангела-губителя, что подтолкнул его бежать, как овцу от пастуха, свой царский чин и человечий образ позабыв.
На его счастье, уже посветлело и вороны начали утреннюю суету на верхушках дерев. Его на камне у обочины заметили пьяные молодчики, что давеча промчались мимо на двух тройках, а теперь ехали не спеша назад и везли, кроме грабленых тюков, ещё и двух шалых визгливых баб.
Это оказались его стрельцы. Узнав царя, они вмиг протрезвели, столкнули баб с телеги, уложили его на мягкое, дали вина, закрыли шубами и погнали в слободу, в испуге переговариваясь, каким образом их государь мог оказаться посреди ночи в лесу – один, без шубы, раздет, избит, в крови, с раной на голове? И не чёрт ли шутит с ними? Да царь ли вообще этот страхолюд – или оборотень, вурдалак? Такого привезёшь в слободу – а он обернётся волком и давай на людей кидаться! Ищи потом осиновые колья и серебряные гвозди!
Но нет, поднимая мягкое отрепье, видели ясно, что это он, великий князь и царь всея Руси, Иоанн Васильевич, с помертвелым лицом и помороженными ушами, с глазами как у пугливой рыбы, смотрит затравленно из-под шуб и синими губами лепечет бессвязно о чём-то совсем уж непонятном и несусветном, чего им постичь не дано, да и вряд ли ему самому понятно:
– Вот оно, ушат с помоями на ноги! Вот они, зайцы через дорогу! Вот оно – не присесть на дорожку, не помолиться, не крестом осениться! Вот и Страшный суд тут как тут! Золото, жизнь, царство – всё дерьмом залито! Так тебе надо, иуде-изменнику! Длань Господня? Нет! Дрянь Господня! Колотовка сатанинская! Так-то с жидами стачки устраивать! Шабтай, мракобесник, отдай корону – голове студёно без черепа! Ушат ужат! Рыбья обвонь кругом! Гарью пахнет! Колымага! Колыма-ага! Зачем царю шапка? Где клыки? Дёру! Нилушка, ноди, ноди!
В печатне
Пособив доктору Элмсу в перевязке раны на царёвом черепе, напоив царя сонным отваром и услышав его храп, Прошка и Ониська отправились в печатню.
Пока готовились к письму, Ониська спрашивал, что с государем, откуда у него такая болона на черепухе, где он мог так упасть? А если побит – то кто мог дерзнуть на такое?
Прошка думал, что государем была сделана одна из его тайных вылазок, коя оказалась неудачна. Царь иногда переодевался в босяцкую одёжу, приклеивал на череп волосы, выпускал чуб из-под шапки, а бороду – на шубу и шёл бродить по торжкам и улицам, тайно смотреть ряды, проверять торговцев, слушать сплетни и бог ещё знает, куда он ходил и что делал, – так ускользал, что охрана от удивления только яблы разевала.
– Да того больше: государь иногда ночами по дворцу гуляет во сне, словно в омраке! Ежели увидишь – не пугайся! Как? А так: он – снохожденец!
И слуга поведал, что стража не раз ночами заставала царя в дворцовых переходах: идёт куда-то, факелы поправляет, скамьи отшвыривает, глаза распахнуты, зрачки вперены в пустоту, дышит как пёс затравленный – хорошо, чародей Бомелий объяснил, что есть люди, кои в лунные ночи во сне ходить умудряются, и, встретившись с ними ненароком, их дёргать или хватать нельзя, а то вцепятся тебе в волосы или горло, даже искусать могут, а надо ласково взять их за руку и повести в постели, говоря тихо-мирно: «Ты спать хочешь, спать… Спать пора…»
– Это значит, у них лунный гон начался: свет луны толкает их, тормошит, давит, теребит, покоя не даёт, они и прутся во сне неведомо куда… Да… Ныне государь смирен да мирен, а было время – ого-го, пух и перья летели, когда гулять выходил! Он с малолетства сам себе, без надзора жил, шайки из пацанов сколачивал. Сей время присмирел, а то не приведи господь сорви-голова был на Москве, рахубник! Но самым злым был Клоп. Ему ни удержу, ни предела нет! Гляди, босяр, ему под руку не попадайся! Подале от него держись! Ныне-то Клоп – думный дьяк Разбойной избы, а раньше сам был разбойником отпетым, да молчать об этом надо, не то языка лишишься враз… Раз у целой стайки воров кожу с лиц посдирал, да и отпустил их, освежёванных, восвояси: «Живите себе с богом! Пусть все видят ваши хари!» Так-то! Пар стоял, как от горячей воды…
Видя, что бедолага-шурин побледнел и хватается за горло, Прошка усмехнулся и перевёл болтовню на одну взбалмошную блудню, боярскую дочь Аришку, коя прибилась тогда к царёвой своре и шлялась с ними днями. Беглая из богатого дома, была она похоти неимоверной, иметь её мог всякий, кто желал, – она только урчала и подставлялась, как кошка мартовская, даже не оборачиваясь и шутя отгадывая, кто в её мясные ворота влез или в гузно молотит.
Потом Прошка вспомнил, что та шалая барыня Аришка была очень похожа на девку-лоханницу Маланку, что весь день нынче тёрлась на мужской половине якобы по делу. Прошке она нравилась, и он уверял Ониську, что, сдаётся ему, Маланку можно заманить куда-нибудь в укромный угол и там пощупать и потискать; баба по-всякому хороша, и даже если не даст воткнуть кол в мутовку из-за девства, месячных или ещё какой блажи, то вполне может рукой подсобить или даже задний оход подставить.
На это Ониська краснел: он только год был женат на перезрелой старшей Прошкиной сестре Усте, ещё не привык к подобным разговорам, будучи скромен и стыдлив. А Прошка, выдав замуж трёх сестёр, женат не был (царь не разрешал, чтоб слуга не отвлекался от службы), но не очень-то этим и печалился, ибо был в почёте у слободских баб, прижил одного ребёнка от солдатки, другого оставил на Москве стрелецкой вдове (говорили, что сей выблядок был продан матерью за рубль золотом заезжим персам), а сам вовсю промышлял по девкам и бабам, коих и в слободе много, и в крепости на работах немало.
– Ну, наболтались, пора за письмо!
Роспись Людей Государевых
Давыдов Семак, Давыдов Филат,
Давидов Офонка, Данилов
Дмитрей, Данилов Иван,
Данилов Первуша, Дементьев
Первуша, Дементьев Тараско,
Демидов Иван, Демидов Савка,
Демидов Худяк, Демьянов
Афонасей, Демьянов Микитка
Игнатьев сын, Денисов Васюк,
Денисов Нежданко, Денисов
Филка, Десятого Русинко,
Дмитреев Васюк Купреянов,
Дмитреев Герасимко, Дмитреев